Гений карьеры: Процесс пошел # На стадии «Заезда» # В состоянии невесомости
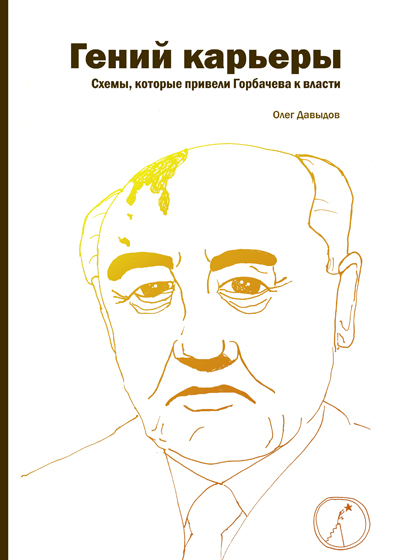
Гений карьеры. Схемы, которые привели Горбачева к власти
Книга Олега Давыдова «Гений карьеры. Схемы, которые привели Горбачева к власти» представляет собой психоаналитическое исследование судьбы и карьеры Михаила Горбачева. Опираясь на узловые моменты биографии Горбачева, автор вскрывает структуру его личности и обнаруживает поведенческие стереотипы, которые обусловили его стремительное возвышение в рамках партийной иерархии. Это, так сказать, история успеха советского карьериста.
Олег Давыдов
© эссеист
Содержание и введение
Гений карьеры: Процесс пошел
Вышеописанная «Атака» на апрельском Пленуме была осложнена одним важным обстоятельством, о котором мы лишь упомянули в предыдущей главке и которое теперь необходимо рассмотреть отдельно. Дело в том, что 23.04.91, накануне открытия пленума, президент СССР собрал руководителей высших государственных органов России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении в Ново-огарево. Обменялись, написали коротенький текст, срочно передали в ТАСС, «Правду». В день открытия Пленума, этот документ, положивший начало Ново-огаревскому процессу, был опубликован. Можно это рассматривать как в своем роде упреждающий ход в «Атаке слабой позиции». Но можно - и по-другому: как «Запускание процесса» из технологии «Чисто политическая работа».

Горбачев ведет заседание
Внимательному читателю настоящих заметок, вероятно, уже ясно, что «Чисто политическая работа» - базовая технология. А двумя ее модификациями являются «Заезд в рай на комбайне» (психологический смысл этой технологии в организации условий для попадания в мир деда Пантелея из мира деда Андрея) и «Атака слабой позиции» (борьба за то, чтобы остаться в мире деда Пантелея, когда человека хотят вернуть к реальностям мира деда Андрея). Сама «Чисто политическая работа» - это, собственно, пребывание и функционирование в мире деда Пантелея, где мальчика любят и всячески возвышают. Взятые в чистом виде, по отдельности, карьерные технологии Горбачева, конечно, абстракции. А на деле существует лишь смешение технологий в разных пропорциях, и отделить одну от другой - часто дело проблематичное. Вот, скажем, мы только что рассматривали события апрельского Пленума как «Атаку слабой позиции». Теперь посмотрим немного иначе.
После мартовского референдума Михаил Сергеевич, разумеется, предпринял «Поиск своей ниши» - посоветовался со специалистами, все как положено: «В привычном кругу мы несколько раз обсуждали обстановку, и после долгих размышлений я принял решение форсировать подготовку и подписание Союзного договора, собрав для этой цели руководителей союзных республик». Иными словами: на этот раз президент нашел свою «Нишу» в Ново-Огарево (архетипической Горькой Балке). Мы уже видели, как 23.04 он «Запустил» ново-огаревский процесс - собрал президентов и прочее. «Синдром Бобчинского» был подготовлен всем предыдущим ходом событий и поэтому последовал незамедлительно - 25.04 товарищи дмитриевы из ЦК начали наезд на Горби, который в ответ пригрозил им отставкой. Выше мы интерпретировали это как «Нет, я вам все же скажу», элемент «Атаки слабой позиции». Но с точки зрения технологии «Чисто политическая работа» выступление консерваторов было, конечно, типичным «Синдромом Бобчинского». Вот она точка совпадения двух технологических цепочек: товарищи дмитриевы, поставленные в «слабую позицию», создают «Синдром Бобчинского». Ну а «Улыбкой Иосифа», Михаил Сергеевич начал светиться, когда «зашел на минутку» к собравшимся обсудить ситуацию членам Политбюро, и они стали уговаривать его не уходить… Эта «Улыбка» ощущается даже в его интонации: «Слушайте, почему Горбачев должен на каждой сессии Верховного Совета, на каждом Съезде народных депутатов и еще на Пленуме ЦК доказывать, что реформы нужны стране, делаются ради ее достойного будущего?»
А действительно - почему он должен это доказывать? В 91-м вроде бы уже никто не сомневается в том, что «реформы нужны стране». Проблема в том, что есть разные представления о том, какие реформы нужны. И - кто их будет проводить. Слишком многие в тот момент (и правые, и левые) уже сильно сомневались в том, что проводить их должен Горбачев. Но сам-то он был совершенно уверен, что только он, президент СССР, может справиться с этим. Естественный путь продолжения реформ он видел в только что «Запущенном процессе». Вспоминая то время, когда после референдума он «Искал свою нишу», Михаил Сергеевич пишет: «В те дни я не раз советовался со своим окружением и укреплялся в убеждении, что только механизм, отражающий реальное соотношение политических сил, обеспечит возможность продолжить реформы. А они, в свою очередь, будут содействовать упрочению объединительных, интеграционных тенденций. В таком политическом механизме нуждались и антикризисная программа, и Союзный договор».
Прекрасно, но все дело в том, что эти благие пожелания рассыпались в прах. Почему? В контексте наших построений ответ очевиден: потому что карьерные технологии хороши для деланья карьеры и совершенно негодны для реальных дел. Строго говоря, сама идея ново-огаревского процесса была не столько ответом на конкретный вызов времени, который состоял тогда в том, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в стране (этого хотелось, конечно, но - не это было для Горбачева главным), сколько стремлением уйти от этого вызова в мир деда Пантелея, заняться политической риторикой в кругу республиканских лидеров, перестать играть по сковывающим детскую свободу правилам, навязанным извне (пытаться решать реальные конкретные рутинные проблемы), а напротив - начать играть по своим правилам, созданным в счастливо найденной для этого «Нише свободы» (тут не худо бы вспомнить страничку нашего исследования, посвященную описанию «Чисто политической работы»).
Что произошло 23.04.91 в Ново-Огарево? Да просто встретились люди, обменялись, высказали пожелания о новых встречах. Был создан кружок. Между прочим - вполне просветительский, поскольку большинству этих темных лидеров нужно было еще объяснять всякого рода политические, юридические и экономические азы, вести с ними агитпроповские беседы о международном положении и так далее. В тот же день Горбачев продиктовал Заявление для печати, согласовал его с кружковцами, передал в ТАСС для того, чтоб товарищи дмитриевы ознакомились и назавтра подняли вой: мол, экономика рушится, надо дело делать, давить, а Горбачев показательные кружки собирает… Ну, да пусть они себе гавкают. Наш герой ведь снова попал в родную стихию. Следующие элементы технологической цепочки «Чисто политическая работа» явятся с логической неизбежностью. Можно расслабиться. Вот как описан в «Жизни и реформах» конец первого ново-огаревского дня: «А сделав дело, поужинали. Прозвучали тосты. И у меня и у коллег, как говорится, от души отлегло, появилась надежда».
Если это было надежда на то, что все как-то теперь образуется, то это - надежда тщетная. Для того, чтобы это понять, достаточно взглянуть на корни «запущенного процесса». Взглянем. Первоначальная смутная мысль о нем зародилась 10.04 на одном из первых заседаний новоучережденного Совета безопасности. Именно там, среди прочего, прозвучали слова о желательности доверительной встречи между президентом Союза и руководителями союзных республик. Горбачев поясняет: «Это был шаг к зарождению ново-огаревского процесса, позволившего приступить практически к реализации курса на «центризм», выход из тупиковой ситуации, достижения результатов путем согласия. Он давал ответы и на вопросы оппозиции, но не в той плоскости, в какой они ставились с ее стороны, а в реалистическом плане».
В последнем предложении в политических терминах сформулировано то, о чем мы чуть выше сказали, используя термины теории карьерных технологий, - надо перевести проблему из рутинной плоскости конкретных решений и ответственных действий, в которой Горбачев не был очень силен, в плоскость поначалу ни к чему не обязывающих бесед в кругу президентов (настоящих и будущих). Насколько это «реалистический план», мы вскоре увидим. Сам Михаил Горбачев описывает политические терзания, приведшие его в Ново-Огарево, следующим образом: «Тогда президентский «мозговой центр» пришел к правильному выводу о нарастании угрозы со стороны консервативных, реваншистских сил. Единственным рациональным ответом на это было соглашение центристов с демократами».
То есть ново-огаревский кружок (включающий, например, будущего Туркмен-Баши) - это форма «соглашения центристов с демократами». Пусть так, но что это значит реально? А это значит, что всякого рода коммунистические фундаменталисты загоняются в «слабую позицию». То есть их снова (и это уже постоянная тенденция) провоцируют на агрессивные действия, естественным ответом на которые будет обычный прием «Нет, я вам все же скажу». Как мы видели, на апрельском Пленуме он был проведен потрясающим блеском. Дальше будет то же самое. Начальствующий при такой направленности горбачевских «Атак» Запад будет очень доволен и повысит нашего героя настолько, насколько это вообще в тот момент возможно: пригласит на лондонский саммит Большой «семерки» (16-19.07), создаст ему там призрачное место (по формуле 7+1), поинтересуется, как продвигается «Общий проект» нового Союзного договора, внимательно выслушает, по-отечески ободрит, благословит на новые подвиги…
Гений карьеры: На стадии «Заезда»
Это, конечно, все очень хорошо, но вообще-то у этих «Атак слабой позиции», направленных против партийных фундаменталистов есть и другая сторона. Результатом их стала ответная консолидация правых, которая началась очень рано: вскоре после референдума, то есть - еще на этапе «Поиска» Горбачевым ново-огаревской «ниши» (что, напомню, является элементов технологии «Чисто политическая работа»). Я не берусь безапелляционно утверждать, что именно «соглашение центристов с демократами» подтолкнуло партийных консерваторов к консолидации, но симптоматично, что они стали проявлять особую активность именно после того, как был сделан «шаг к зарождению ново-огаревского процесса». Да и для Михаила Сергеевича подготовка к тому, что он называет «доверительной моей встречей с руководителями союзных республик» была четко связана с предстоящим пленумом. «Не скрою, - пишет он, комментируя свою идею нового Союзного договора, - мои размышления в немалой мере стимулировались тем, что назначенная на 23 апреля встреча с руководителями девяти республик, должна была пройти накануне Пленума ЦК КПСС, который должен был собраться 24 апреля. Надо было четко определиться с программой практических действий по выходу из экономического и политического кризиса, согласовать ее с руководителями республик и выйти на пленум, вынудив критиков слева и справа публично занять позицию по отношению к тому, что было по сути дела программой национального спасения».

Михаил Горбачев убеждает
Разумеется, против произнесенных на Пленуме общих слов, которые Михаил Сергеевич называет «по сути дела программой национального спасения», никто ничего возразить не мог. Именно потому, что это пока что была лишь голословная декларация о добрых намерениях. Наступило кратковременное затишье. Партийные фундаменталисты на какое-то время заткнулись, радикал демократы ждали, что будет. Даже забастовки на какое-то время прекратились. Это была безусловная победа. Наш герой был счастлив. Он был главным в компании лидеров. Процесс ново-огаревских переговоров обещал быть довольно приятным занятием. Бегство из мира деда Андрея удалось, товарищи дмитриевы где-то тянули свою партийно-хозяйственную лямку, не особенно беспокоили. Но все дело в том, что так продолжалось очень недолго. «Соглашение центристов с демократами» дало нашему герою лишь короткую передышку, затишье, вызванное «Улыбкой Иосифа», сопровождавшейся объяснением, что «Запущенный процесс» приведет к всеобщему счастью и процветанию, было очень кратковременным.
Иного и быть не могло, поскольку положение в стране отнюдь не улучшалось, а наоборот - становилось все хуже. Это давало повод консолидировавшимся фундаменталистам все чаще и резче нападать на Горбачева. Дошло до того, что люди его команды (будущие гекачеписты) стали публично выступать против перестройки. Например, 17.06.91, выступая в ВС СССР, премьер Павлов потребовал предоставить Кабинету министров чрезвычайные полномочия. А во второй половине дня на закрытом заседании с пугающей информацией выступили министр обороны Язов, министр внутренних дел Пуго и председатель КГБ Крючков. последний, в частности, разоблачил перестроечные реформы как заговор ЦРУ, проводимый через “агентов влияния”. При этом прямо сказал, что, “если не будут приняты чрезвычайные меры, наша страна прекратит свое существование”.
Горбачев, разумеется, всем отвечал по всей форме («Нет, я вам все же скажу»…), но делать это ему становилось все трудней и трудней, поскольку, увы, наступала такая пора, когда не грех уже было подумать о «соглашении центристов» - с консерваторами… Дело в том, что ново-огаревский процесс постепенно вошел в рутинную стадию конкретной работы над документами, вязких согласований, перетягивания участниками переговоров одеяла на себя. Речь шла уже не столько о любимых Горбачевым гуманистических ценностях и правах человека, сколько о ценном имуществе и реальных правах на него. Тут президенту Союза пришлось очень и очень несладко. По сути «Чисто политическая работа», в рамках которой наш герой «Запустил» ново-огаревский процесс переродилась в трудоемкий «Заезд в рай на комбайне».
И, естественно, в этом «Заезде» Горбачеву приходилось демонстрировать свои лучшие рабочие качества. То есть - быть реалистом. То есть - мало-помалу уступать позиции, на которых первоначально предполагалось заключить новый Союзный договор. Нет, конечно, Михаил Сергеевич пытался быть твердым, боролся. Например, двинул на Ельцина российские автономные республики, так что дело чуть-чуть не дошло до создания более чем тридцати суверенных государств вместо пятнадцати союзных республик. Но в этих искусных политических маневрах генсек все равно постепенно проигрывал.
Особого драматизма ново-огаревская ситуация достигла 23.07, когда уже надо было завершать все обсуждения (25-го открывался июльский Пленум, на котором надо было опять отбрехиваться от консерваторов), и уже становилось ясно, что никакой федерации не получается, а получается, в лучшем случае, конфедерация. Оставался один кардинальный вопрос - о финансовых платежах Центру. Ельцин считал, что каждая республика должна отчислять в казну Союза фиксированную сумму, из своих финансов. А по мнению Горбачева налоги должен был собирать Центр с каждого конкретного предприятия, самостоятельно регулируя долю отчислений. То есть спор шел о том, кто будет распоряжаться финансами и соответственно - какой должна быть союзная администрация - сильной и самостоятельной или - слабой и зависимой.
Михаил Сергеевич кипятился. Он не хотел зависеть от того, захотят ему что-нибудь дать эти обнаглевшие за время переговоров бандиты, или нет. Он хотел самостоятельно собирать налоги. «Если мы этого не запишем в Договоре, мне здесь делать нечего» - заявил он и стал складывать бумаги в папку, намереваясь уйти. Болдин, который рассказывает этот эпизод, считает, что это была «домашняя заготовка». Президент, мол, хотел напугать своим уходом коллег по переговорам. Может быть и так. Ведь запугал же он коммунистов на апрельском Пленуме аналогичным поступком. Но в данном случае горбачевское «Нет, я вам все же скажу» не возымело никакого действия. «Не доводите нас до того, чтобы мы решили этот вопрос без вас», - по-взрослому ответил Борис Николаевич, и горбачевский детский прием провалился.
Увы, бедный Горби. Мы хотя бы сейчас должны посочувствовать «великому реформатору». Вот он стоит в растерянности, не зная, как поступить. Ясно, что перед нами «Демонстрация горя» из «Атаки слабой позиции». Но кто это оценит? Кто совершит «Неожиданное назначение»? Эти алчные президенты, готовые растащить его страну по «национальным квартирам» (как в те дни выражались)? Нет, только не они. Но что остается тогда? Уйти? Но как тогда можно будет вернуться? Выразить справедливое возмущение? Но он его только что выразил, пригрозив уйти. Что делать? Как быть? Горбачев объявил перерыв.
А после перерыва он сказал (цитирую по книге Горбачева «Размышления о прошлом и будущем»): «Вы там выпивали и закусывали, а мы работали. Предложение такое: Анатолию Ивановичу (Лукьянову), Борису Николаевичу (Ельцину), Ивану Степановичу (Силаеву) поработать над формулой о налогах, в которой было бы четко сказано, что это дело находится под контролем, открытое на всех стадиях до фиксированного процента в каждом случае». Из окончательно согласованного лишь 29.07.91 (на сепаратной встрече Горбачева, Ельцина и Назарбаева) текста статьи 9 («Союзные налоги и сборы») проекта Союзного договора можно, собственно, только то и понять, что это дело должно находиться под контролем. Но что следует из этой «контролируемой» неясности? Только то, что открыто новое поле для конфликтов. Михаил Горбачев столбил себе захватывающие возможности для грядущих «Атак».
Но вообще-то ново-огаревский процесс, который наш герой инициировал и в который он с головой углубился с конца апреля, был процессом постепенного мирного изъятия из рук Горбачева властных полномочий. Потому-то даже Ельцин, пойдя на эти переговоры, фактически прекратил свои немотивированные наскоки, а только лишь деловито подталкивал Михаила Сергеевича к неизбежному. В своей книге «Записки президента» Борис Николаевич достаточно цинично анализирует положение Горбачева во время работы на Союзным договором.
Вот цитата: «Происходила вещь вроде бы нестерпимая для такого человека, как Горбачев: ограничение власти». Это точно - президент СССР уступал куски власти, чтобы не потерять все. Но насчет «нестерпимости» Ельцин, конечно, загнул. Михаила Сергеевича всегда волновала не столько власть, сколько движение к ней, карьера. Но вот что пишет Борис Ельцин дальше: «Во-первых, внешне он шел как бы во главе этого процесса, сохраняя «отцовскую» позицию, инициативу и лидерство - по крайней мере, в глазах общественного мнения. Никто не посягал на стратегическую роль Президента Союза: все глобальные вопросы внешней политики, обороны, большая часть финансовой системы оставались за ним». Очень верно - «отцовская» (а точнее все-таки «дедовская») позиция важна для нашего «вылитого деда». Далее: «Во вторых, с Горбачева разом снималась ответственность за национальные конфликты! Вернее изменялась его роль в распутывании этих безумных кровавых клубков - из «человека с ружьем» он сразу превращался в миротворца, в третейского судью». Тоже правильно, ведь это была бы «Чисто политическая работа», к которой Михаил Сергеевич всю жизнь неуклонно стремился. И последнее: «В-третьих, ему нравилась беспрецедентная в мировой практике роль: руководителя не одного, а множества демократических государств. Это был очень хороший полигон для гибкого вхождения в роль мирового лидера». Точней и не скажешь о человеке, который шаг за шагом выстраивает для себя все новые карьерные ступеньки.
Гений карьеры: В состоянии невесомости
Именно благодаря искусному строительству в пустоте, Горбачев и терял власть. Рано или поздно он должен был сверзнуться в карьерную пропасть. По свидетельству Ельцина 29.07.91 (об этой встрече мы только что упоминали и ниже будем еще говорить) размякший Горбачев даже сказал ему как бы советуясь: «А может быть, мне пойти на всенародные выборы?» Поскольку на этих выборах ему уже ничего не светило, можно рассматривать этот вопрос как размышление вслух: а не отказаться ли мне вообще от власти?

Горбачев, Янаев, неустановленное лицо, Язов у могилы Неизвестного солдата за несколько недель до путча
Когда такие мысли высказываются (пусть даже в самой завуалированной и гипотетической форме), это знак: в душе человека происходят процессы, которые вскоре должны привести к какому-то важному решению, поступку. Вовсе не обязательно это решение будет четко осознано тем, кто его принимает. Он может даже возмутиться, если ему кто-то скажет, что решение это где-то в глубинах его бессознательного уже принято, осталось только совершить соответствующий поступок. Но постороннему человеку некие мелкие детали поведения пациента ясно показывают, что курс на реализацию принятого решения уже взят, и рано или поздно цель, на которую направлено это решение, будет достигнута. Давайте будем иметь это ввиду, созерцая последний акт горбачевской драмы.
Что за решение в тайне от себя принимал в те дни наш герой, мы вскоре поймем (хотя априори можно сказать, что это связано с существованием в мире деда Пантелея). Что же касается отказа от власти, то после прекрасно проведенного в Ново-Огарево «Заезда в рай на комбайне», было бы не самым глупым поступком всем «Сделать ручкой». Ведь тогда уже было ясно, что СССР так или иначе распадется, рано или поздно все равно случится что-нибудь вроде Беловежского путча. Но мы забегаем вперед.
Пойдем по порядку. 23.07.91 Договор был в основном согласован, а начиная с 20.08.91 предполагалось начать его поэтапно подписывать. Но 19-го грянул путч. Свой рассказ об этих событиях Горбачев начинает с цитирования сообщения Павла Вощанова, пресс-секретаря Ельцина тех времен. Оно было опубликовано в «Новой ежедневной газете» от 18.02.94. Вощанов пишет, что где-то на рубеже зимы и весны 91-го к нему «обратилось одно из доверенных лиц союзного вице-президента с предложением: надо организовать конфиденциальную встречу Ельцина и Янаева. Мол, Горбачев ни на что не способен… Страна гибнет… Надо спасать…». Ельцин, по словам Вощанова, ответил отказом. И Янаев тогда, якобы, еще пригрозил: «Не пришлось бы пожалеть. И очень скоро» Комментируя это сообщение, Михаил Сергеевич сетует на то, что человек, которого он «настойчиво продвигал в вице-президенты, меньше чем через год встал на путь предательства», а также - на то, что Борис Николаевич не раскрыл ему глаза на это предательство: «не довел до моего сведения ни в тот момент, ни впоследствии факт подобного к нему обращения. Наверно, оставлял про запас, вдруг еще пригодится».
Похоже, Михаил Сергеевич намекает на то, что, скрывая от него эту важную информацию, Ельцин вольно или невольно способствовал путчистам. Вообще, сообщения нашего героя о событиях путча и о том, что ему предшествовало, какие-то уж слишком осторожные. Как будто он что-то скрывает. Особенно это касается роли Ельцина в путче. Здесь Горбачев строго следует ходульной версии, что вот были такие исчадия ада путчисты, которые заточили президента Союза в темницу, но, благодаря отчаянным действиям одного великого сына России, они были посрамлены и отправлены в ад, где им, собственно, место. Почему Горбачев придерживается именно этой мифологической версии, объясняется просто: она выгодна президенту СССР, облагораживает его поведение в дни путча, оправдывает некоторые поступки, путчу предшествовавшие, скрывает суть дела. Скрывает в том числе - и от самого пострадавшего. Это удобно. Вроде все ясно сказано, и при этом главное, то, что особенно беспокоит, спрятано, обойдено. Типичная структура невротического симптома.
Правда, при этом читатель обнаруживает странные недоговоренности, смысловые нестыковки, зияния, сквозь которые проглядывает что-то больное, скандальное, стыдное. Вот, например, 29.07.91, перед отъездом Михаила Горбачева в отпуск в Форос (4.08), в Ново-Огарево происходит дважды упомянутая выше встреча трех президентов - Горбачева, Ельцина и Назарбаева. Черняев в своем «Дневнике помощника президента» передает со слов своего шефа, что президенты там «пьянствовали до 3 утра». Но не все только пьянствовали. Еще говорили. О Союзном договоре, о том, что предстоит еще в этой связи сделать. Между прочим, зашел разговор и о кадрах. В частности о том, что Язову и Крючкову придется уходить на пенсию. Горбачев пишет: «Вспоминаю, что Ельцин чувствовал себя неуютно: как бы ощущал, что кто-то сидит рядом и подслушивает. А свидетелей в этом случае не должно было быть. Он даже несколько раз выходил на веранду, чтобы оглядеться, настолько не мог сдержать беспокойства.
Сейчас вижу, что чутье его не обманывало. Плеханов готовил для этой встречи комнату, где я обычно работал над докладами, рядом другую, где можно перекусить и отдохнуть. Так вот, видимо, все было заранее «оборудовано», сделана запись нашего разговора, и, ознакомившись с нею, Крючков получил аргумент, который заставил и остальных окончательно потерять голову».
Из этого Михаил Сергеевич делает естественный для себя вывод, что путчисты «действовали, исходя в первую очередь из карьерных или даже шкурных интересов, чтобы сохранить за собой должности». Ну, не знаю, душа советского путчиста - потемки. Думаю, что разные были мотивы у этих несчастных людей. Не стоило бы их так вот скопом всех зачислять в шкуры и карьеристы. Ведь иные из них - Ахромеев, Пуго - в результате решились свести счеты с жизнью. Что - тоже из шкурных побуждений? Или - из карьерных? Ну, да ладно. О той ночной встрече сохранились и другие сведения. Сам президент России многое об этом рассказал. В целом его версия очень похожа на горбачевскую, но все же есть в ней и кое-что новое. Вот изложение Ельцина: «Разговор начали в одном из залов особняка. Все шло нормально, но когда коснулись тем совсем конфиденциальных, я вдруг замолчал.
«Ты что, Борис?» - удивился Горбачев. Мне сложно сейчас вспомнить, какое чувство я в тот момент испытывал. Но было необъяснимое ощущение, будто за спиной кто-то стоит, кто-то за тобой неотступно подглядывает. Я сказал тогда: «Пойдемте на балкон, мне кажется, что нас подслушивают». Горбачев не слишком твердо ответил: «Да брось ты», - но все-таки пошел за мной».
Вообразите: летняя ночь, старинная усадьба, откуда-то доносится волшебный аромат маттиол, толстая бабочка прилетела на свет, бьют крылами в стекло, высокопоставленные конспираторы шушукаются. О чем же? Да о том, что надо убрать председателя КГБ Крючкова, министра обороны Язова, министра внутренних дел Пуго, председателя Гостелерадио Кравченко, вице-президента СССР Янаева, премьер-министра СССР Павлова. Вот в сущности вам и костяк будущего Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). А премьер-министром нового Союза сановные заговорщики решают сделать как раз Назарбаева… Он согласен.
Хорошо, но давайте спросим себя без излишних эмоций: что фактически означает этот откровенный разговор в ситуации, когда есть подозрение, что его прослушивают заинтересованные лица? Да только то, что этим лицам отправляется сообщение: с вами будет покончено. Горбачев-то ладно, он по крайней мере ничего не знает о том, что его выдвиженцы готовы его предать. А Ельцин - знает. Отсюда и это «необъяснимое ощущение, будто за спиной кто-то стоит». Но, зная о том, что против Горбачева плетется интрига, Борис Николаевич не только ничего ему об этом не сообщает, но еще и заводит провокационный разговор о том, кого из окружения союзного президента надо отправить в отставку. На балконе этот разговор ведется или в одном из залов - совершенно неважно. Важно то, что люди Крючкова могут записать этот разговор. И записывают. Через некоторое время после провала путча Ельцин своими глазами увидит расшифровку этой записи. И главку о ново-огаревском процессе в своих «Записках президента» не без некоторого странного удовлетворения заключит словами: «Может быть, эта запись и стала спусковым курком августа 91-го года».
Что касается «спускового курка», то это, может быть, и преувеличение, навеянное фильмами про шпионов. Но вообще-то странное поведение Ельцина в ту ночь заставило насторожиться Горбачева. Через день или два он вдруг сказал Валерию Болдину: «Ты знаешь о моей встрече с Ельциным и Назарбаевым? Они настаивают на том, что Крючкова и Язова надо убирать с должностей: не тянут больше старики». Болдин комментирует: «Я удивился не столько самой встрече, о которой ничего не знал, сколько тому, что сказал Горбачев». Ну а мы имеем случай удивиться тому, что на это ответил Горбачеву Болдин: «Я слышал другое - будто вы обсуждаете вопрос о назначении Бакатина на пост председателя КГБ». Ох, уж эти дворцовые интриги и сплетни, запускаемые ради того, чтобы скрыть сущность дела в тумане недоговоренностей. Болдин продолжает: «Он удивленно взглянул на меня и быстро заговорил:
- Ни Крючкова, ни Язова этим вождям не отдам. Скорее вместе уйдем с постов…
Я понял, что Горбачева очень волновало, знает ли о его разговоре с Ельциным и Назарбаевым Крючков. И если нет, то он, видимо, надеялся, что при случае я могу предать Крючкову слова Горбачева о его решимости отвергнуть предложения Ельцина и Назарбаева. Но моя реплика о том, что Крючкову уже подготовлена замена, заставила Горбачева страстно убеждать меня, что «Володя ему больше, чем друг», и эти домыслы подброшены, чтобы рассорить его со своими соратниками».
Если это не полная инсинуация против нашего героя, то получается, что он тоже старался довести до сведения Крючкова, содержание ночного сговора трех президентов. Ведь Болдин, какой-никакой, а тоже гекачепист. И хоть он утверждает, что сумел поговорить об этом случае с Крючковым лишь через три года (то есть - после отсидки), и тот его уверял, что ничего не знал о том, что «президент СССР плетет против него интриги», нам очень трудно поверить в то, что глава Советского государства не нашел какого-то способа оповестить главу советских чекистов о том, что Ельцин требует его (Крючкова) головы, а он, Горбачев, не хочет ее отдавать. Михаил Сергеевич просто не мог себе позволить не довести это до сведения Крючкова, раз уж заподозрил Ельцина в том, что он намеренно завел провокационный разговор в Ново-Огарево.
Увы, мы опять здесь входим в зыбкую сферу полусознательных интриг великих политиков, которые на ощупь делают историю. Перемены, которые они совершают, почесывая зад, действительно потрясают. Но ведь в самом по себе почесывании зада, кажется, нет ничего особенно великого. Почесывание может быть обусловлено многими привходящими обстоятельствами. Например, активизацией полостных гельминтов, геморрогическими явлениями или какими-то невротическими расстройствами. Склонностью к порке, скажем.
Вот зададимся вопросом: зачем нужно было Борису Николаевичу заводить разговор об этих отставках, если он думал, что рядом «жучки»? Ответ: для того, чтобы подставить Горбачева. Или, по крайней мере, для того, чтобы Михаил Сергеевич начал дергаться и делать глупости. Как видим, российский президент добился своего. Это, конечно, вовсе не значит, что Ельцин намеренно подстроил эту ситуацию. Просто он совершал «ошибку» в духе своей «трехходовки». То есть - подстроил эту ситуацию ненамеренно, завел провокационный разговор об увольнении будущих гекачепистов не потому, что хотел, чтоб они узнали, как Горбачев их сдает, а потому, что хотел подставить себя под порку. Чтобы в дальнейшем счастливо ускользнуть от карающей розги. Будь путчисты немного покруче, не избежать бы Борису наказания. Однако они оказались слизью, и президент России, побывав в «кризисе», настоящей порки все-таки избежал. «Спасся», взобравшись на танк и кинув в толпу (то есть - маме) призыв: демократическое отчество в опасности. Злым папой тут был, разумеется, ГКЧП, который, как намекает Ельцин («может быть, эта запись и стала спусковым курком»), был создан провокационными разговорами в Ново-Огарево.
Повторяю: не стоит, конечно, слишком преувеличивать значение ельцинского «спускового крючка». Но - чем черт не шутит. Ситуация была перекалена до предела. Любая мелочь могла сыграть роль в большой (и не до конца понятной даже главным ее участникам) провокации, которая вела к разрушению СССР. Во всяком случае, удивительное устройство психики Ельцина сыграло в ней важную роль. Ведь Борис Николаевич знал, что папа уже существует в потенции (были, как мы уже видели, сигналы от Янаева: мальчик, веди себя хорошо, а не то будет плохо), но надо ведь было еще мобилизовать этого «папу» на порку, послать ответный сигнал (не буду вести себя хорошо). И Ельцин, конечно, его посылал постоянно. Рассматриваемый нами ново-огаревский случай - один из последних подобного рода прозрачных сигналов перед путчем ...