О пост-капитализме, сгустившемся в настоящем, и Коммунизме, растворившемся в будущем
- или ещё трагически нервного ситуации - в связи с возможностью нового нарратива »»» ... Спойте мне тело, в котором нет слов
Спойте мне слово, в котором нет мяса.
Здравствуй, черный понедельник » ...
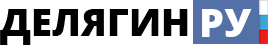
09.02.2018 20:16
Коммунизм подкрался незаметно.
Время капитализма на исходе:
его убивают технологии

Горбачевская катастройка знаменовала политический, а уничтожение Советского Союза - и административный крах коммунистической идеологии. Идеи социальной справедливости стали непристойны в условиях форсированного разграбления наследия советской цивилизации. Ее технологические и образовательные достижения, захваченные и по-новому использованные Западом, легли в основу современного информационного общества, продлившего существование капитализма еще на жизнь целого поколения.
Но это время, похоже, заканчивается, - и дело далеко не только в экономическом кризисе, подрывающем финансовую архитектуру капитализма. Проблема значительно глубже: с его основами оказываются несовместимы технологии, на которые он опирается.
В самом деле: главный ресурс современного мира - информация - является общественным по своей природе благом: это единственное благо, которое не только не сокращается, но и, наоборот, возрастает при передаче другим. При этом информация неотчуждаема: ее невозможно отобрать у того, кто однажды получил (то есть усвоил) ее.
А ведь капитализм основан именно на частном владении и отчуждении! Конечно, новое вино информации пытаются удержать в старых мехах частной собственности пресловутыми «правами интеллектуальной собственности», но их вырождение в тривиальный инструмент злоупотребления монопольным положением и тормоз развития уже давно очевидно всем, кроме самых оголтелых лоббистов.Источник: "Московский комсомолец" (газетная версия)
Обращаясь к этой небольшой статье, хотелось бы предложить опыт неспешного чтения, приглашающего к рефлексии по чрезвычайно актуальной проблематике.
Сначала, собственно, по поводу сказанного во вступительных словах (приведенных вначале в качестве презентационного фрагмента).
Пожалуй, на данный момент, как для оголтелых лоббистов со старыми мехами частной собственности, так и для ортодоксальных марксистов с такими же мехами собственности обобществленной, уже должна быть очевидна объективная сила информации. Которая в постиндустриальном мире становится производственным ресурсом, демонстрирующим неисчерпаемость, подобную неисчерпаемости материи диалектически понятой в рамках индустриальной парадигмы.
Объективная же сила информ-ресурса, будучи явлена для органов ощущений из всех электро- и сетевых "приборов", может быть неочевидна разве что ввиду информ-интоксикации исправно доставляемой теми же "приборами".
Однако тогда, что касается того, что усвоенная информация неотчуждаема - в отличие от собственности на материальные средства/ресурсы, которые могут присваиваться в пользу индивидуальных или общественных интересов в зависимости от классовой природы этих интересов, - здесь получается нечто аналогичное "неуловимому Джо".
То есть - зачем бы отчуждать?... Ведь в пост-индустриальном мире общедоступность информации, как и наличие всех прочих "свобод" и "благ" на душу населения, не только не препятствуют отчуждению труда и превращению родовой сущности человека в средство для поддержания его индивидуального существования, но, наоборот, доводят эти отчуждение и превращение до такого их предела, когда перестаёт восприниматься уже самый факт их проявления и угрозы (см. по теме: _пост-индустриальные превращения свободы и ответственности..._). Соответственно, масса людей перестаёт осознавать свою причастность каким-либо коллективным интересам и общественно-исторической субъектности, хоть бы и не классово представляемым. Однако отсутствие этого осознания, прежде всего, свидетельствует о том, что в общественных отношениях и коммуникации стираются критерии именно классовой идентификации. И особенно интенсивно это стирание происходит там и тогда, где и когда самое пространство социально-политического действия начинает замещаться киберпространством, как обиталищем "личностей без тел" (см. по теме: _индустриальные и пост-индустриальные тех.средства - в связи с про- и ре- грессом в техно- и антропо- сферах_).
И тем не менее, пост-индустриализм предстаёт как состояние после капитализма. Акцентируя на этом внимание, автор рассматриваемой статьи представляет всё так, будто бы это состояние уже само собой свидетельствует о высвобождении возможности движения мира к коммунистической формации.
Символическим примером добровольного отказа самих капиталистов от этого права [частной собственности] стало снятие патентной защиты с технологий 3D-печати. Изобретенные в конце 80-х годов, они не развивались именно из-за прав интеллектуальной собственности - и лишь отказ от них и всеобщий доступ к технологиям поспособствовали их совершенствованию и обеспечили их широкое распространение (пусть даже их преобразующий эффект и был первоначально преувеличен).
Информационные технологии уже сделали бытом многое из мечтаний классиков марксизма, хотя, разумеется, и по-другому. В развитых и многих неразвитых странах труд перестал быть необходимым для выживания (и всерьез обсуждается введение безусловного дохода, гарантированного для каждого), разница между рабочим и свободным временем стерлась, а между трудом и развлечением стирается стремительно: труд действительно становится все более творческим.Можно ли говорить о труде - там, где оказывается размыта временна́я структуризация деятельности, и сама деятельность перестаёт отличаться от досужего времяпрепровождения? И если, таким образом, говорить о труде оказывается крайне проблематично, то в чём и как можно увидеть зарождение качеств творчества? Отметив эти проблемные моменты, читаем далее по тексту.
Деньги теряют значение, уступая роль инструмента и критерия успеха все менее отчуждаемым от своих создателей технологиям, которые все меньше продаются и все больше передаются во временное пользование. Значение рынка для общественного развития сокращается, а технологической инфраструктуры растет. Люди чувствуют себя все более свободными в повседневном поведении. То, что вне коллектива это рождает чувства одиночества, брошенности и ненужности - другая тема, как и то, что информационная инфраструктура позволяет жестко (в рамках «алгоритмических обществ») программировать поведение формально свободных людей.
Акционеры глобальных корпораций уже, как правило, не могут управлять своей собственностью: эта функция объективно принадлежит топ-менеджерам. Более того: акционеры в массе своей и не хотят управлять, желая быть, по сути, пенсионерами, а не собственниками, и уничтожая тем самым являющуюся фундаментом капитализма частную собственность, которая просто не существует вне процесса управления. Она отмирает, хотя и совсем не так, как предполагали классики.
Под вопросом оказывается сам фундамент рынка - эквивалентность обмена! Ведь продажа по завышенной в разы цене эмоций, связанных с обладанием «фирменной» вещью, может быть признана эквивалентной весьма условно.Да, всё слишком не по классикам. Ибо постклассика становится отрицанием классики как таковой, то есть отрицанием каких-либо принципов и какой-либо вменяемости относительно того, что диктуется принципами.
Отсюда тотально распространяющийся тренд аутсорсинга в управлении. Причём, как следует добавить, не только в управлении собственностью, но и в гос.управлении (см. в тему: _ответственность за грядущее делегированая в никуда_).
И откуда тогда у "формально свободных в повседневном поведении" исполнителей функционала в технологических инфраструктурах могла бы появиться вменяемость относительно трендов общественно-исторического развития? А именно относительно того, что формальное равенство, даже в его социалистическом варианте, сохраняющем классовую структуризацию общества, есть лишь условие возможности достижения равенства фактического. Которое осуществляется как быстрое, настоящее, действительно массовое движение вперед во всех областях общественной и личной жизни - к осуществлению правила: "каждый по способностям, каждому по потребностям" (см. подробнее: _классические формулы и пост-классические рефлексии_).
Поскольку всё это оказывается за скобками сознания "хорошо информированных" людей, постольку вырождение чувства "свободы" в чувства одиночества, брошенности и ненужности происходит не только вне коллектива. И это именно в том смысле, что сами коллективы превращаются в жёстко программируемые "алгоритмические общества" (см. подробнее: _о соблазнах и немощах публичных и приватных_). А тогда актуальнее, прежде всего, говорить о чувствах фобии перед одиночеством, брошенностью и ненужностью. Перед тем, что страшит в этих чувствах, всё, по определению, оказывается весьма условно - что, прежде всего, значит: обусловлено выработкой защитных механизмов. В этой связи, эмоции задействуются не только как механизм в формировании потребительского спроса, но и как механизм, скрепляющий отношения людей в сообществах условиями некого негласного договора (см. по теме: _"фига в кармане", складывающаяся в виде общего консенсуса безответственности_).
Стало быть, дело в том, что эта условность, по сути, представляющая собой превращенную форму классически капиталистических спекуляций, продолжает быть специфическим "фундаментом рынка" в пост-капиталистических сообществах - формируя специфически корпоративные стандарты само-идентификации и, соответственно, эквиваленты обмена взаимными идентификациями. Эмоции в этом обмене оказываются столь же значимы, как и в отношениях потребитель/товар. И даже более значимы - коль скоро речь о том чтобы не оказаться лишним на этом "празднике жизни", потеряв корпоративное "лицо", обеспечивающее доступ к "свободам" и "благам" (см. по теме: _от каждого по способностям - в "работе лицом" и "рытье земли" в процессе приобщения к "корпоративной культуре"_).
И не устаю повторять то проблемно-ключевое, что механизмы такого рода фундируют не только сугубо рыночно ориентированные орг.структуры, но и всю совокупность институциональных структур, включая самые что ни наесть традиционные, и общественно-политических организаций, включая самые что ни наесть демократически передовые (см. по теме _...барьеры сложности и супротив того (в заключение)_).
Возвращаясь к тексту рассматриваемой статьи, справедливости ради заметим, что, конечно, автор далёк от того чтобы в самих пост-капиталистических превращениях видеть нечто вроде "нео-социалистической альтернативы". Это видно из дальнейшего изложения.
Помимо теоретических проблем с коммунизмом связано единственное морально приемлемое решение экзистенциального вопроса, уже поставленного перед человечеством сверхпроизводительностью информационных технологий.
Для производства материальных и нематериальных благ, потребляемых им, нужно все меньше людей - и миллиарды становятся лишними в прямом смысле слова: они потребляют значительно больше, чем производят.Далее - о том, как, ввиду обозначенных трендов глобальной политики, реализуются отмеченные нами локальные орг.механизмы формирования пост-индустриального рынка.
В рамках традиционного для капитализма стремления к прибыли как цели развития «лишние рты» должны быть уничтожены: само их существование является вопиющей бесхозяйственностью, не имеющим оправдания расточением ресурсов. А истребление «лишних ртов» голодом, болезнями, конфликтами малой интенсивности и планированием семьи, как показывает опыт Африки и арабского мира, не работает: уничтожение людей (с чем столкнулся еще автор прошлого общеевропейского проекта Гитлер) технически оказалось крайне сложно.
При этом наибольший разрыв между потреблением и производством наблюдается не у нищих Африки, живущих на 1,5 доллара в день, а у среднего класса Запада, благополучие которого лежит в основе современных представлений об экономическом и политическом устройстве мира.
Выходом из ситуации видится сегодня конструирование «виртуальной реальности», более насыщенной и интересной, чем обычная, и отправка туда в один конец максимальной части «не вписавшихся в рынок» представителей благополучных западных обществ. Это позволит попутно трансформировать общества в соответствии с представлениями глобального бизнеса: заменить демократию (о допустимости которой лишь на местном уровне прямо заявил в начале своего президентства Макрон) тотальной информационной диктатурой, а рынок - централизованным распределением всех ресурсов, начиная с денег (популярность идеи Сороса о «финансовом госплане» отнюдь не случайна).
Однако пока не решена главная проблема: извлечение прибыли из ушедших в «виртуальную реальность» граждан развитых стран, без чего их утилизация становится коммерчески неэффективной, а значит, нереализуемой в серьезных масштабах.
До того чтобы средний класс согласился со своим уничтожением и превращением в «новых бедных», его надо запугивать - и механизмы этого запугивания опасны для Запада сами по себе.
Истерика вокруг «глобального потепления» лишила права голоса серьезных ученых и сделала ненаказуемым прямой обман так же, как истерика вокруг «русских хакеров» освободила Хиллари Клинтон от ответственности за совершенные преступления. Первое лишило Запад главного преимущества в конкуренции цивилизаций - науки как производительной силы, а второе превратило Россию из верного союзника в противника.
Массовый же завоз молодых мусульман под видом «беженцев» не только вытеснил из массового сознания вопросы благосостояния более комфортными для власти вопросами безопасности, но и ускорил исламизацию Европы.Так вот, как это часто бывает, противоречия усмотренные в авторских позициях, в действительности, имеют место в самом предмете, который с этих позиций рассматривается. К тому же, в нашем случае, автор акцентирует внимание на глобальном масштабе социально-политического процесса, а мы осуществляли свои критические замечания, акцентируясь на локальных аспектах этого процесса. Соответственно, с одной стороны, противоречия увязываются просто с беспрецедентностью самого процесса глобализации и отсутствием в классической традиции готовых рецептов взаимодействия с этой новизной (см. по теме _беспрецедентность вызова_); с другой стороны, намётки к самостоятельному созданию такого рода рецептов можно найти обращаясь к диагностическим свидетельствам марксистко-ленинской классики (в связи с понятиями труда, коллективности, отчуждения и пр.).
Однако, в конце концов, мы сошлись с автором рассматриваемой статьи в части внимания к специфическим механизмам, формирующим пост-капиталистическое устройство общества и мира. А именно: то, что на локальном уровне предстаёт в виде информационно-коммуникативного конструирования жестких фильтров нео-рыночного корпоративизма, является, по сути, проявлением глобальных трендов утилизации существенной части человечества. Можно также представить эту взаимосвязь таким образом: происходящее на локальном уровне отчуждение человеческого в общественных отношениях задействуется как механизм глобальной утилизации существенной части человечества.
Опыт осмысления этих процессов в рассматриваемой статье подытоживается следующими, разумеется, очень предварительными выводами идейно-концептуального и организационно-практического характера.
Единственная альтернатива утилизации огромной части человечества - отказ от капиталистической парадигмы как таковой. Признание того, что человек является чем-то большим, чем инструментом извлечения прибыли из мироздания, переворачивает все восприятие современной ситуации и снимает с повестки дня необходимость массового уничтожения людей.
Если вслед за коммунистами счесть целью существования человека его самосовершенствование - как индивидуальное, так и общественное, - проблема избытка рабочей силы сменится проблемой ее жесточайшей нехватки - в первую очередь в сфере образования и здравоохранения (в том числе в странах, не уничтоживших их под видом «оптимизации»). Ведь чтобы превращать молодежь не в «квалифицированных потребителей» или «эффективных менеджеров», а всесторонне и гармонично развитые личности, нужны значительно большие усилия, требующие не только более высокой квалификации, но и большего числа педагогов.
Однако попытка такого развития, предпринятая советской цивилизацией, разбилась об отсутствие как действенных стимулов (предоставленный себе в условиях минимального комфорта средний человек предпочитает деградировать, а не совершенствоваться), так и универсального, практически применимого критерия совершенствования. Ведь личность в отличие от стремления к прибыли многогранна - и прогресс в одних сферах вполне может сопровождаться деградацией в других.
Не ставя перед собой эти ключевые вопросы, человечество не найдет на них ответов и продолжит привычный путь к прибыли, ведущий в новых условиях к массовому, невиданному даже для Средневековья, уничтожению людей. Если неприемлемость этого будет осознана (что не обязательно: когда население в Германии в ходе 30-летней войны было сокращено втрое, осознания неприемлемости этого не было), сохранившаяся часть человечества сможет воспользоваться объективными технологическими предпосылками коммунизма - если, конечно, технологии не погибнут вместе с людьми.
В конце концов, как отмечал один из выдающихся мыслителей постсоветского пространства Марк Ткачук, люди приходят к коммунизму от безысходности, перепробовав все остальные варианты и убедившись в их неприемлемости. Важно лишь не войти в число погибших по дороге.
В современном мире, как и в исторической России, жить надо долго.На первый взгляд, как-то не вяжется эта безысходность, возникающая по остаточному принципу, с тем великим порывом к историческому восхождению, который предполагается Идеей Коммунизма...
Однако, речь здесь, очевидно, не о существе порыва, но о конкретном опыте трагического поиска, при котором человечество неизбежно оказывается вынужденным упереться во все возможные тупики, чтобы найти единственно верное направление своего исторического пути.
Ключевые же вопросы, связанные с вынесением уроков из опыта тупиковых преткновений, как можно заметить, адресуют всё к тем же локальным и глобальным фокусировкам на проблемах. Соответственно - к действенности стимулов на местах (поиск и создание в конкретных коллективных структурах условий оптимального комфорта для само-совершенствования) и универсальным, практически применимым критериям совершенствования (см. по теме _глобально-локальный идиотизм и супротив того_).
А самым главным организационно-практическим критерием, обретающимся на стыке так обозначенных локальной и глобальной фокусировок, должно быть то совершенно несложное для понимания, что качество организации измеряется возможностью найти место и применение людям с разными типами личности, характера и темперамента, образом жизни и мысли, укладом и темпом жизни (см. по теме мир человеческий).
И всё это - в непосредственнейшей связи с вопросами о ключевых институтах (образовании, здравоохранении, науки и др.), непосредственно же связанными с классовым вопросом (осознанием гражданами причастности коллективным интересам и общественно-исторической субъектности), и тем самым адресующими к возможностям
обеспечения социально-политического процесса, в котором осознание себя классом-локомотивом должно быть осуществлено уже НЕ столько отдельной социальной стратой, выделенной по специализированным меркам в производственной сфере (материальной или знаниевой), НО во всех гражданах, непосредственно обеспечивающих функционирование тех традиционных институтов общества, которые, непосредственно же, участвуют в социально-культурном воспроизводстве человека (см. подробнее:
_минимум миниморум (сжато) по приоритетам в наращивании проектно-мобилизационной мощи учения всесильного, потому что верного_).
А что вы имеете сказать (добавить, возразить и т.д.) по изложенному в статье и замеченному мною в ходе её прочтения?...
Спойте мне слово, в котором нет мяса.
Здравствуй, черный понедельник » ...
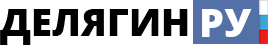
09.02.2018 20:16
Коммунизм подкрался незаметно.
Время капитализма на исходе:
его убивают технологии

Горбачевская катастройка знаменовала политический, а уничтожение Советского Союза - и административный крах коммунистической идеологии. Идеи социальной справедливости стали непристойны в условиях форсированного разграбления наследия советской цивилизации. Ее технологические и образовательные достижения, захваченные и по-новому использованные Западом, легли в основу современного информационного общества, продлившего существование капитализма еще на жизнь целого поколения.
Но это время, похоже, заканчивается, - и дело далеко не только в экономическом кризисе, подрывающем финансовую архитектуру капитализма. Проблема значительно глубже: с его основами оказываются несовместимы технологии, на которые он опирается.
В самом деле: главный ресурс современного мира - информация - является общественным по своей природе благом: это единственное благо, которое не только не сокращается, но и, наоборот, возрастает при передаче другим. При этом информация неотчуждаема: ее невозможно отобрать у того, кто однажды получил (то есть усвоил) ее.
А ведь капитализм основан именно на частном владении и отчуждении! Конечно, новое вино информации пытаются удержать в старых мехах частной собственности пресловутыми «правами интеллектуальной собственности», но их вырождение в тривиальный инструмент злоупотребления монопольным положением и тормоз развития уже давно очевидно всем, кроме самых оголтелых лоббистов.Источник: "Московский комсомолец" (газетная версия)
Обращаясь к этой небольшой статье, хотелось бы предложить опыт неспешного чтения, приглашающего к рефлексии по чрезвычайно актуальной проблематике.
Сначала, собственно, по поводу сказанного во вступительных словах (приведенных вначале в качестве презентационного фрагмента).
Пожалуй, на данный момент, как для оголтелых лоббистов со старыми мехами частной собственности, так и для ортодоксальных марксистов с такими же мехами собственности обобществленной, уже должна быть очевидна объективная сила информации. Которая в постиндустриальном мире становится производственным ресурсом, демонстрирующим неисчерпаемость, подобную неисчерпаемости материи диалектически понятой в рамках индустриальной парадигмы.
Объективная же сила информ-ресурса, будучи явлена для органов ощущений из всех электро- и сетевых "приборов", может быть неочевидна разве что ввиду информ-интоксикации исправно доставляемой теми же "приборами".
Однако тогда, что касается того, что усвоенная информация неотчуждаема - в отличие от собственности на материальные средства/ресурсы, которые могут присваиваться в пользу индивидуальных или общественных интересов в зависимости от классовой природы этих интересов, - здесь получается нечто аналогичное "неуловимому Джо".
То есть - зачем бы отчуждать?... Ведь в пост-индустриальном мире общедоступность информации, как и наличие всех прочих "свобод" и "благ" на душу населения, не только не препятствуют отчуждению труда и превращению родовой сущности человека в средство для поддержания его индивидуального существования, но, наоборот, доводят эти отчуждение и превращение до такого их предела, когда перестаёт восприниматься уже самый факт их проявления и угрозы (см. по теме: _пост-индустриальные превращения свободы и ответственности..._). Соответственно, масса людей перестаёт осознавать свою причастность каким-либо коллективным интересам и общественно-исторической субъектности, хоть бы и не классово представляемым. Однако отсутствие этого осознания, прежде всего, свидетельствует о том, что в общественных отношениях и коммуникации стираются критерии именно классовой идентификации. И особенно интенсивно это стирание происходит там и тогда, где и когда самое пространство социально-политического действия начинает замещаться киберпространством, как обиталищем "личностей без тел" (см. по теме: _индустриальные и пост-индустриальные тех.средства - в связи с про- и ре- грессом в техно- и антропо- сферах_).
И тем не менее, пост-индустриализм предстаёт как состояние после капитализма. Акцентируя на этом внимание, автор рассматриваемой статьи представляет всё так, будто бы это состояние уже само собой свидетельствует о высвобождении возможности движения мира к коммунистической формации.
Символическим примером добровольного отказа самих капиталистов от этого права [частной собственности] стало снятие патентной защиты с технологий 3D-печати. Изобретенные в конце 80-х годов, они не развивались именно из-за прав интеллектуальной собственности - и лишь отказ от них и всеобщий доступ к технологиям поспособствовали их совершенствованию и обеспечили их широкое распространение (пусть даже их преобразующий эффект и был первоначально преувеличен).
Информационные технологии уже сделали бытом многое из мечтаний классиков марксизма, хотя, разумеется, и по-другому. В развитых и многих неразвитых странах труд перестал быть необходимым для выживания (и всерьез обсуждается введение безусловного дохода, гарантированного для каждого), разница между рабочим и свободным временем стерлась, а между трудом и развлечением стирается стремительно: труд действительно становится все более творческим.Можно ли говорить о труде - там, где оказывается размыта временна́я структуризация деятельности, и сама деятельность перестаёт отличаться от досужего времяпрепровождения? И если, таким образом, говорить о труде оказывается крайне проблематично, то в чём и как можно увидеть зарождение качеств творчества? Отметив эти проблемные моменты, читаем далее по тексту.
Деньги теряют значение, уступая роль инструмента и критерия успеха все менее отчуждаемым от своих создателей технологиям, которые все меньше продаются и все больше передаются во временное пользование. Значение рынка для общественного развития сокращается, а технологической инфраструктуры растет. Люди чувствуют себя все более свободными в повседневном поведении. То, что вне коллектива это рождает чувства одиночества, брошенности и ненужности - другая тема, как и то, что информационная инфраструктура позволяет жестко (в рамках «алгоритмических обществ») программировать поведение формально свободных людей.
Акционеры глобальных корпораций уже, как правило, не могут управлять своей собственностью: эта функция объективно принадлежит топ-менеджерам. Более того: акционеры в массе своей и не хотят управлять, желая быть, по сути, пенсионерами, а не собственниками, и уничтожая тем самым являющуюся фундаментом капитализма частную собственность, которая просто не существует вне процесса управления. Она отмирает, хотя и совсем не так, как предполагали классики.
Под вопросом оказывается сам фундамент рынка - эквивалентность обмена! Ведь продажа по завышенной в разы цене эмоций, связанных с обладанием «фирменной» вещью, может быть признана эквивалентной весьма условно.Да, всё слишком не по классикам. Ибо постклассика становится отрицанием классики как таковой, то есть отрицанием каких-либо принципов и какой-либо вменяемости относительно того, что диктуется принципами.
Отсюда тотально распространяющийся тренд аутсорсинга в управлении. Причём, как следует добавить, не только в управлении собственностью, но и в гос.управлении (см. в тему: _ответственность за грядущее делегированая в никуда_).
И откуда тогда у "формально свободных в повседневном поведении" исполнителей функционала в технологических инфраструктурах могла бы появиться вменяемость относительно трендов общественно-исторического развития? А именно относительно того, что формальное равенство, даже в его социалистическом варианте, сохраняющем классовую структуризацию общества, есть лишь условие возможности достижения равенства фактического. Которое осуществляется как быстрое, настоящее, действительно массовое движение вперед во всех областях общественной и личной жизни - к осуществлению правила: "каждый по способностям, каждому по потребностям" (см. подробнее: _классические формулы и пост-классические рефлексии_).
Поскольку всё это оказывается за скобками сознания "хорошо информированных" людей, постольку вырождение чувства "свободы" в чувства одиночества, брошенности и ненужности происходит не только вне коллектива. И это именно в том смысле, что сами коллективы превращаются в жёстко программируемые "алгоритмические общества" (см. подробнее: _о соблазнах и немощах публичных и приватных_). А тогда актуальнее, прежде всего, говорить о чувствах фобии перед одиночеством, брошенностью и ненужностью. Перед тем, что страшит в этих чувствах, всё, по определению, оказывается весьма условно - что, прежде всего, значит: обусловлено выработкой защитных механизмов. В этой связи, эмоции задействуются не только как механизм в формировании потребительского спроса, но и как механизм, скрепляющий отношения людей в сообществах условиями некого негласного договора (см. по теме: _"фига в кармане", складывающаяся в виде общего консенсуса безответственности_).
Стало быть, дело в том, что эта условность, по сути, представляющая собой превращенную форму классически капиталистических спекуляций, продолжает быть специфическим "фундаментом рынка" в пост-капиталистических сообществах - формируя специфически корпоративные стандарты само-идентификации и, соответственно, эквиваленты обмена взаимными идентификациями. Эмоции в этом обмене оказываются столь же значимы, как и в отношениях потребитель/товар. И даже более значимы - коль скоро речь о том чтобы не оказаться лишним на этом "празднике жизни", потеряв корпоративное "лицо", обеспечивающее доступ к "свободам" и "благам" (см. по теме: _от каждого по способностям - в "работе лицом" и "рытье земли" в процессе приобщения к "корпоративной культуре"_).
И не устаю повторять то проблемно-ключевое, что механизмы такого рода фундируют не только сугубо рыночно ориентированные орг.структуры, но и всю совокупность институциональных структур, включая самые что ни наесть традиционные, и общественно-политических организаций, включая самые что ни наесть демократически передовые (см. по теме _...барьеры сложности и супротив того (в заключение)_).
Возвращаясь к тексту рассматриваемой статьи, справедливости ради заметим, что, конечно, автор далёк от того чтобы в самих пост-капиталистических превращениях видеть нечто вроде "нео-социалистической альтернативы". Это видно из дальнейшего изложения.
Помимо теоретических проблем с коммунизмом связано единственное морально приемлемое решение экзистенциального вопроса, уже поставленного перед человечеством сверхпроизводительностью информационных технологий.
Для производства материальных и нематериальных благ, потребляемых им, нужно все меньше людей - и миллиарды становятся лишними в прямом смысле слова: они потребляют значительно больше, чем производят.Далее - о том, как, ввиду обозначенных трендов глобальной политики, реализуются отмеченные нами локальные орг.механизмы формирования пост-индустриального рынка.
В рамках традиционного для капитализма стремления к прибыли как цели развития «лишние рты» должны быть уничтожены: само их существование является вопиющей бесхозяйственностью, не имеющим оправдания расточением ресурсов. А истребление «лишних ртов» голодом, болезнями, конфликтами малой интенсивности и планированием семьи, как показывает опыт Африки и арабского мира, не работает: уничтожение людей (с чем столкнулся еще автор прошлого общеевропейского проекта Гитлер) технически оказалось крайне сложно.
При этом наибольший разрыв между потреблением и производством наблюдается не у нищих Африки, живущих на 1,5 доллара в день, а у среднего класса Запада, благополучие которого лежит в основе современных представлений об экономическом и политическом устройстве мира.
Выходом из ситуации видится сегодня конструирование «виртуальной реальности», более насыщенной и интересной, чем обычная, и отправка туда в один конец максимальной части «не вписавшихся в рынок» представителей благополучных западных обществ. Это позволит попутно трансформировать общества в соответствии с представлениями глобального бизнеса: заменить демократию (о допустимости которой лишь на местном уровне прямо заявил в начале своего президентства Макрон) тотальной информационной диктатурой, а рынок - централизованным распределением всех ресурсов, начиная с денег (популярность идеи Сороса о «финансовом госплане» отнюдь не случайна).
Однако пока не решена главная проблема: извлечение прибыли из ушедших в «виртуальную реальность» граждан развитых стран, без чего их утилизация становится коммерчески неэффективной, а значит, нереализуемой в серьезных масштабах.
До того чтобы средний класс согласился со своим уничтожением и превращением в «новых бедных», его надо запугивать - и механизмы этого запугивания опасны для Запада сами по себе.
Истерика вокруг «глобального потепления» лишила права голоса серьезных ученых и сделала ненаказуемым прямой обман так же, как истерика вокруг «русских хакеров» освободила Хиллари Клинтон от ответственности за совершенные преступления. Первое лишило Запад главного преимущества в конкуренции цивилизаций - науки как производительной силы, а второе превратило Россию из верного союзника в противника.
Массовый же завоз молодых мусульман под видом «беженцев» не только вытеснил из массового сознания вопросы благосостояния более комфортными для власти вопросами безопасности, но и ускорил исламизацию Европы.Так вот, как это часто бывает, противоречия усмотренные в авторских позициях, в действительности, имеют место в самом предмете, который с этих позиций рассматривается. К тому же, в нашем случае, автор акцентирует внимание на глобальном масштабе социально-политического процесса, а мы осуществляли свои критические замечания, акцентируясь на локальных аспектах этого процесса. Соответственно, с одной стороны, противоречия увязываются просто с беспрецедентностью самого процесса глобализации и отсутствием в классической традиции готовых рецептов взаимодействия с этой новизной (см. по теме _беспрецедентность вызова_); с другой стороны, намётки к самостоятельному созданию такого рода рецептов можно найти обращаясь к диагностическим свидетельствам марксистко-ленинской классики (в связи с понятиями труда, коллективности, отчуждения и пр.).
Однако, в конце концов, мы сошлись с автором рассматриваемой статьи в части внимания к специфическим механизмам, формирующим пост-капиталистическое устройство общества и мира. А именно: то, что на локальном уровне предстаёт в виде информационно-коммуникативного конструирования жестких фильтров нео-рыночного корпоративизма, является, по сути, проявлением глобальных трендов утилизации существенной части человечества. Можно также представить эту взаимосвязь таким образом: происходящее на локальном уровне отчуждение человеческого в общественных отношениях задействуется как механизм глобальной утилизации существенной части человечества.
Опыт осмысления этих процессов в рассматриваемой статье подытоживается следующими, разумеется, очень предварительными выводами идейно-концептуального и организационно-практического характера.
Единственная альтернатива утилизации огромной части человечества - отказ от капиталистической парадигмы как таковой. Признание того, что человек является чем-то большим, чем инструментом извлечения прибыли из мироздания, переворачивает все восприятие современной ситуации и снимает с повестки дня необходимость массового уничтожения людей.
Если вслед за коммунистами счесть целью существования человека его самосовершенствование - как индивидуальное, так и общественное, - проблема избытка рабочей силы сменится проблемой ее жесточайшей нехватки - в первую очередь в сфере образования и здравоохранения (в том числе в странах, не уничтоживших их под видом «оптимизации»). Ведь чтобы превращать молодежь не в «квалифицированных потребителей» или «эффективных менеджеров», а всесторонне и гармонично развитые личности, нужны значительно большие усилия, требующие не только более высокой квалификации, но и большего числа педагогов.
Однако попытка такого развития, предпринятая советской цивилизацией, разбилась об отсутствие как действенных стимулов (предоставленный себе в условиях минимального комфорта средний человек предпочитает деградировать, а не совершенствоваться), так и универсального, практически применимого критерия совершенствования. Ведь личность в отличие от стремления к прибыли многогранна - и прогресс в одних сферах вполне может сопровождаться деградацией в других.
Не ставя перед собой эти ключевые вопросы, человечество не найдет на них ответов и продолжит привычный путь к прибыли, ведущий в новых условиях к массовому, невиданному даже для Средневековья, уничтожению людей. Если неприемлемость этого будет осознана (что не обязательно: когда население в Германии в ходе 30-летней войны было сокращено втрое, осознания неприемлемости этого не было), сохранившаяся часть человечества сможет воспользоваться объективными технологическими предпосылками коммунизма - если, конечно, технологии не погибнут вместе с людьми.
В конце концов, как отмечал один из выдающихся мыслителей постсоветского пространства Марк Ткачук, люди приходят к коммунизму от безысходности, перепробовав все остальные варианты и убедившись в их неприемлемости. Важно лишь не войти в число погибших по дороге.
В современном мире, как и в исторической России, жить надо долго.На первый взгляд, как-то не вяжется эта безысходность, возникающая по остаточному принципу, с тем великим порывом к историческому восхождению, который предполагается Идеей Коммунизма...
Однако, речь здесь, очевидно, не о существе порыва, но о конкретном опыте трагического поиска, при котором человечество неизбежно оказывается вынужденным упереться во все возможные тупики, чтобы найти единственно верное направление своего исторического пути.
Ключевые же вопросы, связанные с вынесением уроков из опыта тупиковых преткновений, как можно заметить, адресуют всё к тем же локальным и глобальным фокусировкам на проблемах. Соответственно - к действенности стимулов на местах (поиск и создание в конкретных коллективных структурах условий оптимального комфорта для само-совершенствования) и универсальным, практически применимым критериям совершенствования (см. по теме _глобально-локальный идиотизм и супротив того_).
А самым главным организационно-практическим критерием, обретающимся на стыке так обозначенных локальной и глобальной фокусировок, должно быть то совершенно несложное для понимания, что качество организации измеряется возможностью найти место и применение людям с разными типами личности, характера и темперамента, образом жизни и мысли, укладом и темпом жизни (см. по теме мир человеческий).
И всё это - в непосредственнейшей связи с вопросами о ключевых институтах (образовании, здравоохранении, науки и др.), непосредственно же связанными с классовым вопросом (осознанием гражданами причастности коллективным интересам и общественно-исторической субъектности), и тем самым адресующими к возможностям
обеспечения социально-политического процесса, в котором осознание себя классом-локомотивом должно быть осуществлено уже НЕ столько отдельной социальной стратой, выделенной по специализированным меркам в производственной сфере (материальной или знаниевой), НО во всех гражданах, непосредственно обеспечивающих функционирование тех традиционных институтов общества, которые, непосредственно же, участвуют в социально-культурном воспроизводстве человека (см. подробнее:
_минимум миниморум (сжато) по приоритетам в наращивании проектно-мобилизационной мощи учения всесильного, потому что верного_).
А что вы имеете сказать (добавить, возразить и т.д.) по изложенному в статье и замеченному мною в ходе её прочтения?...