Госдепартамент США и прибалтийские губернии Российской Империи.
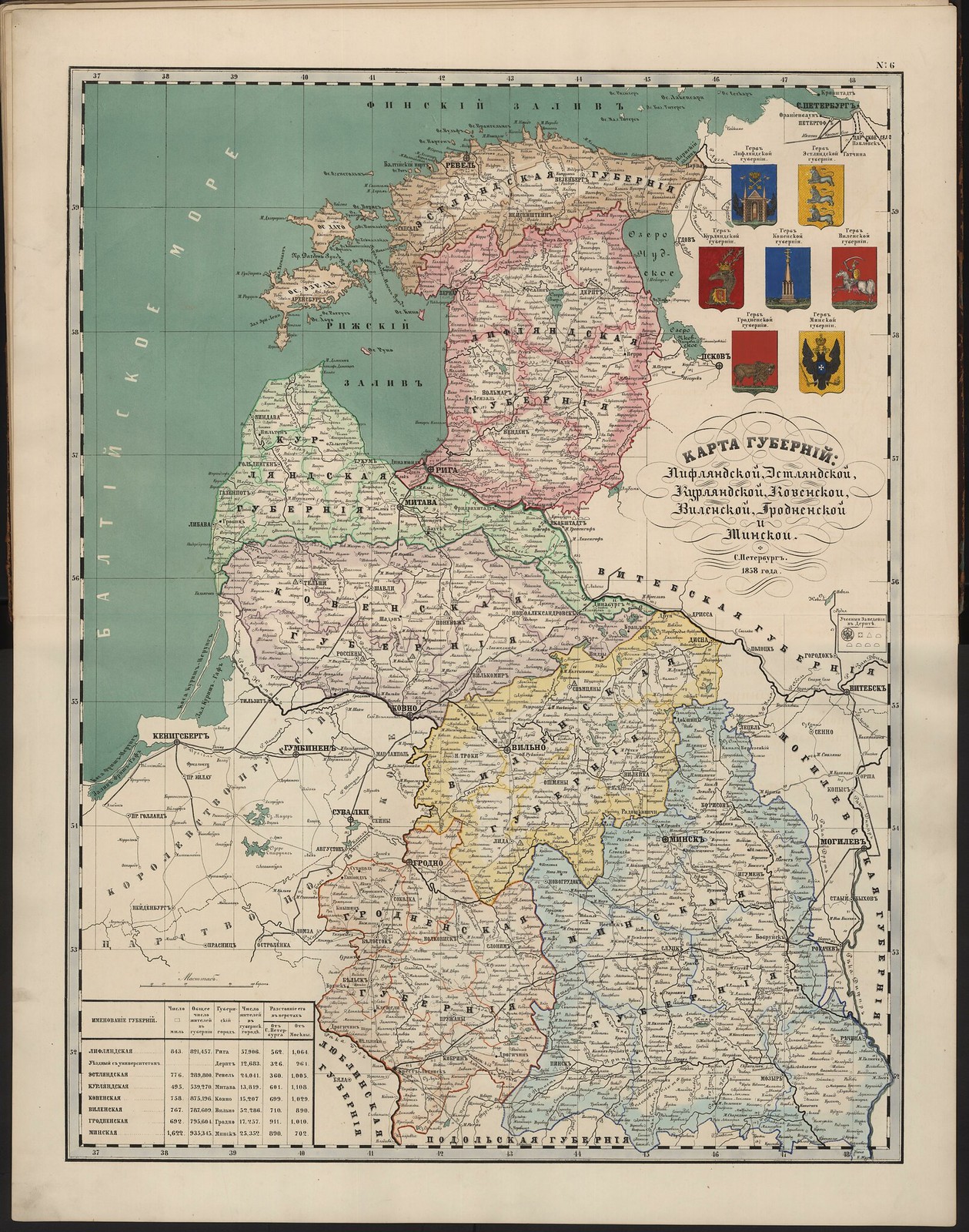
Вклад банкиров из США, в особенности такого ненавистника Российского Самодержавия, как Джейкоб Генри Шифф (Jacob Henry Schiff), в революционных событиях 1917 года и в цареубийстве год спустя был решающим. Однако парадокс заключался в том, что с начала революции в России, большевицкой оккупации и гражданской войны, вплоть до самого 1922 года Государственный департамент США был, по сути, единственной внешней силой, которая упорно и настойчиво защищала неделимость Российской территории, причём вопреки русофобской политике большевицкой верхушки, направленной на предоставление независимости Российским окраинам (или права на отделение), и предательству союзников России по Антанте.
Большевицкие иуды признали независимость Эстонии уже в феврале 1920 года, Литву - в июле, и Латвию - в августе того же года. Вслед за большевиками, (но только после поражения Врангеля) Англия и Франция тоже признали Эстонию, Латвию и Литву - в 1921 году.
Сразу после признания прибалтов большевиками, в августе 1920 года Государственный секретарь Бейнбридж Колби (Bainbridge Colby) так излагал позицию своего ведомства по этому вопросу: «Департамент продолжает быть настойчивым в своем отказе признавать прибалтийские государства в качестве независимых от России государств. Американское правительство не считает полезными какие-либо решения, предложенные какой-либо международной конференцией, если они предполагают признание в качестве независимых государств тех или иных группировок, обладающих той или иной степенью контроля над территориями, являвшимися частью Императорской России».
В полном соответствии с этими декларациями, и в 1919, и в 1920, и в 1921 годах Государственный департамент США весьма холодно отвечал на обращения к нему литовских, эстонских и латвийских властей с просьбами о дипломатическом признании. Причём даже сторонники такого признания внутри американской дипломатической службы использовали в своих посланиях вполне «прорусские» аргументы. Так, представитель США в Риге Э. Янг сообщал в Вашингтон в том же 1920 году: «У местных лидеров нет иллюзий относительно будущих отношений этих государств с Россией, и они вполне осознают, что в своё время, с восстановлением в России надлежащей, устойчивой формы правления, прибалтийские провинции вновь окажутся частью того, что вероятно станет федеративной Россией. Дабы способствовать воплощению в жизнь того, на чём настаивает наша русская политика, я настоятельно рекомендую признать эти три государства de facto, с тем, чтобы в скором будущем, если нынешние обстоятельства сохранятся, признать de jure Латвию и Литву - с оговоркой или заявлением о том, что это признание никоим образом не может быть интерпретировано как отклонение от нашей политики, оставляющей на будущее урегулирование тех отношений, которые будут существовать между этими государствами и новой Россией. С Эстонией же следует подождать до того момента, пока она не очистит себя от позора большевизма».
Вот как рассуждал тот же Э. Янг в апреле 1922 года: «Сейчас бесполезно обсуждать вопрос о том, насколько латыши, эстонцы и литовцы были вправе, с моральной точки зрения, провозглашать свою независимость в час слабости России».
Ни одно из официальных заявлений государственного департамента США относительно желательности для всеобщего мира восстановления территориальной целостности исторической России (Российской Империи) никогда и никем не было дезавуировано.
Единственным обоснованием долголетнего признания Вашингтоном отдельного от России статуса прибалтийских республик служила внешнеполитическая целесообразность (официальное «противостояние коммунизму») и внутриполитическая целесообразность (удовлетворение чаяний организованного прибалтийского лобби).
Любое русское национальное правительство, которое пожелает стать правопреемником дореволюционной России (Российской Империи), должно будет заново рассматривать вопрос законности отчуждения наших прибалтийских провинций.