Нина Берберова: хроники одиноких людей
Сегодня, восьмого августа 2021 года исполнилось сто двадцать лет со дня рождения Нины Берберовой. В нашем сообществе есть посты об этой уникальной, удивительной писательнице, например, https://fem-books.livejournal.com/246518.html , https://fem-books.livejournal.com/245817.html - сходите по ссылкам, не пожалеете. А я сегодня хочу рассказать о книге, которая имела особенный успех и в эмигрантской русскоязычной печати, и в переводах, и - много-много лет спустя - на постсоветском пространстве. Чтобы понимать тот фурор, с которым читателирвали друг у друга из рук «Роман-газету» в 1994 году, а в 1997 вагриусовское издание биографического романа, нужно давать себе отчёт, какое отношение существовало тогда к Чайковскому. Можно было находиться дальше некуда от классической музыки, ни разу в жизни не посетить оперу или балет, но Танец маленьких лебедей не узнать и не напеть было невозможно. Шутки про «Лебединое озеро» по телевизору не устаревают до сих пор, а на «Щелкунчика» в Мариинский театр детей водит уже четвёртое-пятое поколение. И медали свои получают нынче российские спортсменки и спортсмены под музыку не кого-нибудь, а Чайковского.

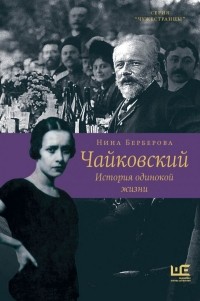
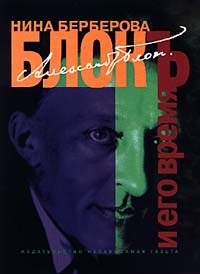
Берберова создавала романсизированное жизнеописание композитора в другую эпоху и для другой публики. Тридцать шестой год! Сама она объясняла свой выбор тремя причинами: во-первых, 1930-е годы были временем писания биографий. Писатели их писали, а читатели их с увлечением читали, во-вторых, как раз вышла масса архивных документов и исследований о Чайковском, и в-третьих, издатель обещал платить авторские. Но были ещё факты, сыгравшие не менее значительную роль в моем решении: поколение людей, знавших Чайковского в своей молодости, рожденное в 1860-70 гг., доживало свой век. Я решила встретиться с ними и говорить с ними - с Рахманиновым, с Глазуновым, с вдовой брата Чайковского, Анатолия Ильича (бывшего губернатора Саратова и члена Государственного совета), с первой Татьяной - Марией Николаевной Климентовой, с внуками фон Мекк. Эти люди приняли меня, говорили со мной. Без их помощи я никогда не могла бы написать своей книги. Среди них был и Владимир Николаевич Аргутинский, который ответил почти на все мои вопросы...
С первых же страниц «Чайковский. История одинокой жизни» поражает филигранным слогом -- и антимузыкальностью, даже а-музыкальностью.Не имея специального образования, Берберова не дерзала говорить о произведениях Чайковского с музыковедческой точки зрения и предпочла не говорить о ней вовсе. Хотя, конечно, прав Заппа, говорить о музыке всё равно, что танцевать об архитектуре, так что придётся сопроводить роман саундтреком. Без него не будет понятно, чему, собственно, публика рукоплескала, почему разрыдался а-музыкальный Лев Толстой. В тексте этого никак не дано. Наверное, потому, что и не может быть дано. Музыка в книге о музыкотворце - фигура умолчания.
Особый флёр этой нарочито чуть сухой, неэкстравагантной биографии придавала гомосексуальность Чайковского, обсуждение которой в СССР по понятным причинам не поощрялось. Хотя незатейливая хохма про «Любим мы Петра Ильича не за это» тоже не устаревает, никак устареть не может, интерес к гомосексуальной тематике как составляющая интереса к «Истории одинокой жизни» важен. Хвалили, мол, Берберова очень бережно подошла к этой специфической теме... право, не знаю. У меня иные представления о бережности. Автор «Пиковой дамы» в изложении Берберовой предстаёт андрогином, чья повышенная чувствительность происходит от женского начала и неустанно акцентируется:
Трудности, - писал он Модесту, - не в отсутствии вдохновения, - а напротив, в слишком сильном напоре оного. Мной овладело какое-то бешенство; я целые три дня мучился и терзался, что материалу так много, а человеческих сил и времени так мало. Мне хотелось в один час сделать все, как это бывает в сновидении. Ногти искусаны, желудок действовал плохо, для сна приходилось увеличивать винную порцию, а вчера вечером, читая книгу о Жанне д'Арк и дойдя до процесса abjuration [фр. - отречения] и самой казни (она ужасно кричала всё время, когда её вели, и умоляла, чтобы ей отрубили голову, но не жгли), я страшно разревелся...
Предстаёт герой и платоническим (?) педофилом, бегающим втихаря за школьниками, проникнувшимся эротическими чувствами к семилетнему племяннику. Нельзя сказать ни да, ни нет, поскольку выяснить, откуда эту информацию взяла писательница, не представляется возможным. Тут надо самой в архив садиться. Мучительный приступ с конвульсиями, овладевший Чайковским, когда его лакея и (возможно) партнёра Алексея призвали в армию, объясняется так: Он предчувствовал, что Алеша вернется чужим, огрубевшим в казарменной жизни. Он предчувствовал, что останется один, никем не сможет заменить его. Но опять же, откуда мы знаем, что предчувствовал Пётр Ильич? А почему, например, не предчувствовать в такой ситуации, что Алёша вследствие тогдашних предрассудков банально этой казармы не переживёт, став жертвой насилия?
Непростые отношения Чайковского с его меценаткой Надеждой Филаретовной фон Мекк Берберова объясняет тем, что сорокапятилетняя вдова магната считала себя женщиной жизни композитора, однако сделать его своим любовником не могла. Она же мать одиннадцатерых (на самом деле восемнадцатерых, семеро умерли в раннем младенчестве) детей, она бабушка! Гм. Екатерине Великой не мешало, что она бабушка. Фон Мекк, кстати, внучатая племянница князя Григорья Потёмкина, отсюда такие ассоциации. Чайковский и Надежда Филаретовна виделись лишь дважды, а за героиню додуман настоящий платонический роман в духе несчастной Адели Гюго. Сложилось впечатление, что фон Мекк любопытнее Берберовой, чем Пётр Ильич со своими метаниями и экзальтациями, железная женщина больше занимает, чем стеклянный мальчик. Её бы биографию взялась писать!
Основанием же разрыва между меценаткой и композитором Берберова безапелляционно называет раскрытие гомосексуальности Чайковского. И опять же хочется понять, на чём это основано.
Из письма Н.Ф. фон Мекк Чайковскому:
Мой милый обожаемый друг! Пишу Вам в состоянии такого упоения, такого экстаза, который охватывает всю мою душу, который, вероятно, расстраивает мне здоровье и от которого я всё-таки не хочу освободиться ни за что, и Вы сейчас поймете почему. Два дня назад я получила четырёхручное переложение нашей симфонии и вот, что приводит меня в такое состояние, в котором мне и больно и сладко. Я играю - не наиграюсь, не могу наслушаться её. Эти божественные звуки охватывают всё моё существо, возбуждают нервы, приводят мозг в такое экзальтированное состояние, что эти две ночи я провожу без сна, в каком-то горячечном бреду, и с пяти часов утра уже совсем не смыкаю глаз, как встаю наутро, так думаю, как бы скорее опять сесть играть. Боже мой, как Вы умели изобразить и тоску отчаяния, и луч надежды, и горе, и страдание, и всё-всё, чего так много перечувствовала в жизни я и что делает мне эту музыку не только дорогою, как музыкальное произведение, но близкою и дорогою, как выражение моей жизни, моих чувств. Пётр Ильич, я стою того, чтобы эта симфония была моя: никто не в состоянии так оценить её, как я, музыканты могут оценить её только умом, я же слушаю, чувствую и сочувствую всем своим существом. Если мне надо умереть за то, чтобы слушать её, я умру, а всё-таки буду слушать. Вы не можете себе представить, что я чувствую в эту минуту, когда пишу Вам и в это время слышу звуки нашей божественной симфонии.
Коротко говоря, в книге Берберовой мне больше всего понравились письма её действующих лиц... То же можно сказать, кстати, и о следующей берберовской биографии, мне попавшейся на читательском пути: об «Александре Блоке и его времени» (1947). Блок получился такой же эмоциональный и неуравновешенный, как Чайковский, великий не своими мыслями, не своим искусством, а чуткостью хорошо отлаженного медицинского прибора, улавливающего последние корчи умирающей России.Всё его окружение изображается как психопатичное... хотя тут есть доля правды. Лучшим произведением Блока Берберова считает поэму «Возмездие», наиболее устаревшим, конечно, «Двенадцать». В литературоведении она вообще чувствует себя гораздо более компетентной, чем в музыковедении, и щедро раздаёт оценки, с которыми согласиться трудновато. Вот, к примеру, о поэзии 1880-х-1890-х годов.
Некрасов (он умер в 1877 году) повёл русскую поэзию по этому тупиковому пути: политическая тематика, бунт против режима, любовь к униженным. Некрасов в ту пору занимал первое место: его влияние преобладало над пушкинским. От писателя требовали, чтобы он служил общественным интересам. Романист обязан изображать жизнь своих героев, общественную среду как можно точнее и подробнее, он должен способствовать решению политических и социальных проблем. От поэта ожидали сострадания к «страдающим братьям» или борьбы «за лучшее будущее». К месту и не к месту вспоминали слова Некрасова:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
Это «гражданское» направление в искусстве имело глубокие психологические корни и несомненные нравственные достоинства. К сожалению, его эстетические установки крайне убоги. Русская критика того времени решительно отделяла форму от содержания. Лишь тема делала произведение значительным, к тому же существовали строжайшие запреты. Цензура либеральной критики так же нетерпимо относилась к вере и индивидуализму, как цензура правительственная - к атеизму. [...] Те, кто не желали быть прежде всего «гражданами» и хотели оставаться поэтами, искали прибежища в философии, изобиловавшей заглавными буквами, в цыганщине или в бесплодном подражании классикам.
Я читала и не могла понять, о ком это. Рафинированнейший Случевский и философия с заглавными буквами? Лохвицкая и подражание классикам (если да, то каким именно)? У Фофанова где-то в стихотворении по мокрому шоссе, в мерцающем платке, прошла усталая цыганка -- это ещё цыганщина или уже нет? Я вообще отказываюсь понимать термин цыганщина. У Надсона, положим, можно сыскать сострадание к страдающим братьям, но что он был равнодушен к поэтической форме - смелое заявление.
Или: За исключением Анны Ахматовой, обладавшей истинным поэтическим талантом, и Осипа Мандельштама, редкостно одарённого и необычного поэта, питомцы Гумилёва полностью лишены индивидуальности. Понятно, Адамович, Георгий Иванов, Одоевцева Берберовой активно не нравились, однако отрицать наличие у них индивидуальности - не перебор ли? И ещё вопрос: можно ли считать Ахматову и Мандельштама прямо-таки гумилёвскими питомцами? Слово-то до чего противное: питомцы. Как левретки. Ворча и изнемогая, я не уставала изумляться: так давно это написано, семь десятков с лишним лет прошло: а до сих пор как свежо, как актуально, как хочется спорить и спорить! Нет, Берберову прямо-таки нельзя не порекомендовать в нашем сообществе.
Из письма приказчика Николая Тяпина, ноябрь 1917 года:
Ваше Превосходительство Милостивая Государыня Александра Андреевна.
Именье описали, ключи у меня отобрали, хлеб увезли, оставили мне муки немного, пудов 15 или 18.
В доме произвели разруху. Письменный стол Александра Александровича открывали топором, всё перерыли. Безобразие, хулиганства не описать. У библиотеки дверь выломана. Это не свободные граждане, а дикари, человеки-звери. Отныне я моим чувством перехожу в непартийные ряды. Пусть будут прокляты все 13 номеров борющихся дураков.
Лошадь я продал за 230 рублей.
Я, наверное, скоро уеду, если вы приедете, то, пожалуйста, мне сообщите заранее, потому что от меня требуют, чтобы я доложил о вашем приезде, но я не желаю на Вас доносить и боюсь народного гнева. Есть люди, которые Вас жалеют, и есть ненавидящие.
Пошлите поскорей ответ.
На рояли играли, курили, плевали, надевали 6ариновы кэпки, взяли бинокли, ножи, деньги, медали, а ещё не знаю, что было, мне стало дурно, я ушёл...

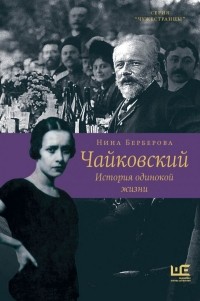
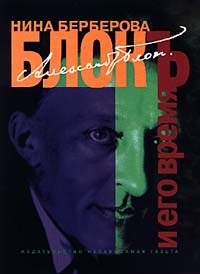
Берберова создавала романсизированное жизнеописание композитора в другую эпоху и для другой публики. Тридцать шестой год! Сама она объясняла свой выбор тремя причинами: во-первых, 1930-е годы были временем писания биографий. Писатели их писали, а читатели их с увлечением читали, во-вторых, как раз вышла масса архивных документов и исследований о Чайковском, и в-третьих, издатель обещал платить авторские. Но были ещё факты, сыгравшие не менее значительную роль в моем решении: поколение людей, знавших Чайковского в своей молодости, рожденное в 1860-70 гг., доживало свой век. Я решила встретиться с ними и говорить с ними - с Рахманиновым, с Глазуновым, с вдовой брата Чайковского, Анатолия Ильича (бывшего губернатора Саратова и члена Государственного совета), с первой Татьяной - Марией Николаевной Климентовой, с внуками фон Мекк. Эти люди приняли меня, говорили со мной. Без их помощи я никогда не могла бы написать своей книги. Среди них был и Владимир Николаевич Аргутинский, который ответил почти на все мои вопросы...
С первых же страниц «Чайковский. История одинокой жизни» поражает филигранным слогом -- и антимузыкальностью, даже а-музыкальностью.Не имея специального образования, Берберова не дерзала говорить о произведениях Чайковского с музыковедческой точки зрения и предпочла не говорить о ней вовсе. Хотя, конечно, прав Заппа, говорить о музыке всё равно, что танцевать об архитектуре, так что придётся сопроводить роман саундтреком. Без него не будет понятно, чему, собственно, публика рукоплескала, почему разрыдался а-музыкальный Лев Толстой. В тексте этого никак не дано. Наверное, потому, что и не может быть дано. Музыка в книге о музыкотворце - фигура умолчания.
Особый флёр этой нарочито чуть сухой, неэкстравагантной биографии придавала гомосексуальность Чайковского, обсуждение которой в СССР по понятным причинам не поощрялось. Хотя незатейливая хохма про «Любим мы Петра Ильича не за это» тоже не устаревает, никак устареть не может, интерес к гомосексуальной тематике как составляющая интереса к «Истории одинокой жизни» важен. Хвалили, мол, Берберова очень бережно подошла к этой специфической теме... право, не знаю. У меня иные представления о бережности. Автор «Пиковой дамы» в изложении Берберовой предстаёт андрогином, чья повышенная чувствительность происходит от женского начала и неустанно акцентируется:
Трудности, - писал он Модесту, - не в отсутствии вдохновения, - а напротив, в слишком сильном напоре оного. Мной овладело какое-то бешенство; я целые три дня мучился и терзался, что материалу так много, а человеческих сил и времени так мало. Мне хотелось в один час сделать все, как это бывает в сновидении. Ногти искусаны, желудок действовал плохо, для сна приходилось увеличивать винную порцию, а вчера вечером, читая книгу о Жанне д'Арк и дойдя до процесса abjuration [фр. - отречения] и самой казни (она ужасно кричала всё время, когда её вели, и умоляла, чтобы ей отрубили голову, но не жгли), я страшно разревелся...
Предстаёт герой и платоническим (?) педофилом, бегающим втихаря за школьниками, проникнувшимся эротическими чувствами к семилетнему племяннику. Нельзя сказать ни да, ни нет, поскольку выяснить, откуда эту информацию взяла писательница, не представляется возможным. Тут надо самой в архив садиться. Мучительный приступ с конвульсиями, овладевший Чайковским, когда его лакея и (возможно) партнёра Алексея призвали в армию, объясняется так: Он предчувствовал, что Алеша вернется чужим, огрубевшим в казарменной жизни. Он предчувствовал, что останется один, никем не сможет заменить его. Но опять же, откуда мы знаем, что предчувствовал Пётр Ильич? А почему, например, не предчувствовать в такой ситуации, что Алёша вследствие тогдашних предрассудков банально этой казармы не переживёт, став жертвой насилия?
Непростые отношения Чайковского с его меценаткой Надеждой Филаретовной фон Мекк Берберова объясняет тем, что сорокапятилетняя вдова магната считала себя женщиной жизни композитора, однако сделать его своим любовником не могла. Она же мать одиннадцатерых (на самом деле восемнадцатерых, семеро умерли в раннем младенчестве) детей, она бабушка! Гм. Екатерине Великой не мешало, что она бабушка. Фон Мекк, кстати, внучатая племянница князя Григорья Потёмкина, отсюда такие ассоциации. Чайковский и Надежда Филаретовна виделись лишь дважды, а за героиню додуман настоящий платонический роман в духе несчастной Адели Гюго. Сложилось впечатление, что фон Мекк любопытнее Берберовой, чем Пётр Ильич со своими метаниями и экзальтациями, железная женщина больше занимает, чем стеклянный мальчик. Её бы биографию взялась писать!
Основанием же разрыва между меценаткой и композитором Берберова безапелляционно называет раскрытие гомосексуальности Чайковского. И опять же хочется понять, на чём это основано.
Из письма Н.Ф. фон Мекк Чайковскому:
Мой милый обожаемый друг! Пишу Вам в состоянии такого упоения, такого экстаза, который охватывает всю мою душу, который, вероятно, расстраивает мне здоровье и от которого я всё-таки не хочу освободиться ни за что, и Вы сейчас поймете почему. Два дня назад я получила четырёхручное переложение нашей симфонии и вот, что приводит меня в такое состояние, в котором мне и больно и сладко. Я играю - не наиграюсь, не могу наслушаться её. Эти божественные звуки охватывают всё моё существо, возбуждают нервы, приводят мозг в такое экзальтированное состояние, что эти две ночи я провожу без сна, в каком-то горячечном бреду, и с пяти часов утра уже совсем не смыкаю глаз, как встаю наутро, так думаю, как бы скорее опять сесть играть. Боже мой, как Вы умели изобразить и тоску отчаяния, и луч надежды, и горе, и страдание, и всё-всё, чего так много перечувствовала в жизни я и что делает мне эту музыку не только дорогою, как музыкальное произведение, но близкою и дорогою, как выражение моей жизни, моих чувств. Пётр Ильич, я стою того, чтобы эта симфония была моя: никто не в состоянии так оценить её, как я, музыканты могут оценить её только умом, я же слушаю, чувствую и сочувствую всем своим существом. Если мне надо умереть за то, чтобы слушать её, я умру, а всё-таки буду слушать. Вы не можете себе представить, что я чувствую в эту минуту, когда пишу Вам и в это время слышу звуки нашей божественной симфонии.
Коротко говоря, в книге Берберовой мне больше всего понравились письма её действующих лиц... То же можно сказать, кстати, и о следующей берберовской биографии, мне попавшейся на читательском пути: об «Александре Блоке и его времени» (1947). Блок получился такой же эмоциональный и неуравновешенный, как Чайковский, великий не своими мыслями, не своим искусством, а чуткостью хорошо отлаженного медицинского прибора, улавливающего последние корчи умирающей России.Всё его окружение изображается как психопатичное... хотя тут есть доля правды. Лучшим произведением Блока Берберова считает поэму «Возмездие», наиболее устаревшим, конечно, «Двенадцать». В литературоведении она вообще чувствует себя гораздо более компетентной, чем в музыковедении, и щедро раздаёт оценки, с которыми согласиться трудновато. Вот, к примеру, о поэзии 1880-х-1890-х годов.
Некрасов (он умер в 1877 году) повёл русскую поэзию по этому тупиковому пути: политическая тематика, бунт против режима, любовь к униженным. Некрасов в ту пору занимал первое место: его влияние преобладало над пушкинским. От писателя требовали, чтобы он служил общественным интересам. Романист обязан изображать жизнь своих героев, общественную среду как можно точнее и подробнее, он должен способствовать решению политических и социальных проблем. От поэта ожидали сострадания к «страдающим братьям» или борьбы «за лучшее будущее». К месту и не к месту вспоминали слова Некрасова:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
Это «гражданское» направление в искусстве имело глубокие психологические корни и несомненные нравственные достоинства. К сожалению, его эстетические установки крайне убоги. Русская критика того времени решительно отделяла форму от содержания. Лишь тема делала произведение значительным, к тому же существовали строжайшие запреты. Цензура либеральной критики так же нетерпимо относилась к вере и индивидуализму, как цензура правительственная - к атеизму. [...] Те, кто не желали быть прежде всего «гражданами» и хотели оставаться поэтами, искали прибежища в философии, изобиловавшей заглавными буквами, в цыганщине или в бесплодном подражании классикам.
Я читала и не могла понять, о ком это. Рафинированнейший Случевский и философия с заглавными буквами? Лохвицкая и подражание классикам (если да, то каким именно)? У Фофанова где-то в стихотворении по мокрому шоссе, в мерцающем платке, прошла усталая цыганка -- это ещё цыганщина или уже нет? Я вообще отказываюсь понимать термин цыганщина. У Надсона, положим, можно сыскать сострадание к страдающим братьям, но что он был равнодушен к поэтической форме - смелое заявление.
Или: За исключением Анны Ахматовой, обладавшей истинным поэтическим талантом, и Осипа Мандельштама, редкостно одарённого и необычного поэта, питомцы Гумилёва полностью лишены индивидуальности. Понятно, Адамович, Георгий Иванов, Одоевцева Берберовой активно не нравились, однако отрицать наличие у них индивидуальности - не перебор ли? И ещё вопрос: можно ли считать Ахматову и Мандельштама прямо-таки гумилёвскими питомцами? Слово-то до чего противное: питомцы. Как левретки. Ворча и изнемогая, я не уставала изумляться: так давно это написано, семь десятков с лишним лет прошло: а до сих пор как свежо, как актуально, как хочется спорить и спорить! Нет, Берберову прямо-таки нельзя не порекомендовать в нашем сообществе.
Из письма приказчика Николая Тяпина, ноябрь 1917 года:
Ваше Превосходительство Милостивая Государыня Александра Андреевна.
Именье описали, ключи у меня отобрали, хлеб увезли, оставили мне муки немного, пудов 15 или 18.
В доме произвели разруху. Письменный стол Александра Александровича открывали топором, всё перерыли. Безобразие, хулиганства не описать. У библиотеки дверь выломана. Это не свободные граждане, а дикари, человеки-звери. Отныне я моим чувством перехожу в непартийные ряды. Пусть будут прокляты все 13 номеров борющихся дураков.
Лошадь я продал за 230 рублей.
Я, наверное, скоро уеду, если вы приедете, то, пожалуйста, мне сообщите заранее, потому что от меня требуют, чтобы я доложил о вашем приезде, но я не желаю на Вас доносить и боюсь народного гнева. Есть люди, которые Вас жалеют, и есть ненавидящие.
Пошлите поскорей ответ.
На рояли играли, курили, плевали, надевали 6ариновы кэпки, взяли бинокли, ножи, деньги, медали, а ещё не знаю, что было, мне стало дурно, я ушёл...