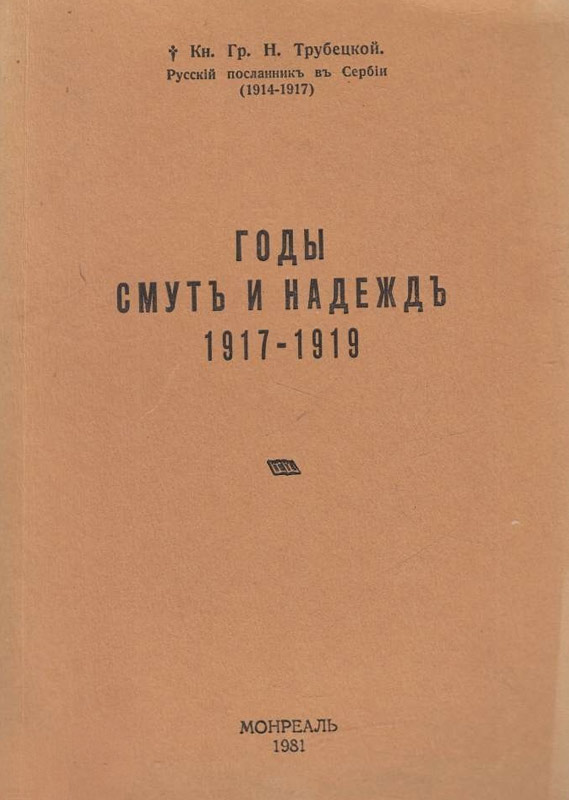Князь Трубецкой о Гражданской войне. Часть I
Из книги Григория Николаевича Трубецкого «Годы смут и надежд 1917-1919».
Ноябрь и декабрь месяцы 1917 года прошли в бесплодных попытках московского Правого Центра изыскать крупные материальные силы для поддержки дела создания Добровольческой Армии, предпринятой в Новочеркасске генералом Алексеевым. Мне пришлось по этому делу дважды ездить из Москвы в Петроград, сначала - одному, потом с Кривошеиным и Д. М. Щепкиным. Мы хотели вступить в связь с союзниками. Иностранные посольства в Петрограде находились в то время в состоянии страха перед Троцким и жалкой растерянности. Дипломаты считали большевиков способными на что угодно и боялись, что с ними, в случае чего, не станут церемониться, но попросту свезут в Петропавловскую крепость. Больше всего эта мысль страшила жену английского посланника Бьюкенона; еще весной, после февральской революции, ее пугал этой перспективой приезжавший в Россию французский министр-социалист Альбер Тома.
[Читать далее]Бьюкенэн отказывался кого бы то ни было принимать иди даже видаться в нейтральном месте... Нас свели в нейтральном месте с английским военным агентом майором Киз. Последний также развивал крайнюю конспиративность. Кривошеину он обещал принципиально крупную материальную поддержку; больше всего его озабочивал вопрос о том, как переправить деньги в Новочеркасск.
В московских финансовых кругах все попытки наши достать крупные суммы ни к чему не привели... Веры в начинавшееся дело было немного, и большинство, несмотря на удары судьбы, все еще держались взгляда: зачем буду давать я, если, может быть, другой даст за меня? Всего-навсего в Москве собрали несколько сот тысяч рублей. Часть этих денег была истрачена на содержание военной организации в самой Москве, а другая часть послана была генералу Алексееву.
Раньше всех в Новочеркасск уехал инженер Н. Н. Лебеденко, принимавший деятельное участие в вооруженной борьбе, которая предшествовала утверждению большевиков в Москве. Пробыв недели две в Новочеркасске, Лебеденко вернулся на короткое время в Москву...
В Москве существовало розовое представление о Доне и казачестве. Издали казалось, что Дон является твердым консервативным устоем, о который разобьется большевицкая пропаганда, что казаки стоят определенно на почве единой великой России и что у них и от них начнется дело ее возрождения.
По прибытии в Новочеркасск генералу Алексееву с первых же шагов пришлось убедиться в том, насколько обстановка на Дону сложнее той, которая, может быть, и ему рисовалась до приезда. Донской атаман ген. Каледин принял Алексеева дружественно, но просил его сохранять инкогнито...
Каледин считал необходимым проявлять величайшую сдержанность и осторожность, чтобы не всполошить казаков, настроение коих он знал, конечно, гораздо лучше, чем те, кому пришлось пережить впоследствии на их счет горькие иллюзии.
В начале ноября в Новочеркасск приехал Председатель Государственной Думы, М. В. Родзянко... У себя на Фурштадтской он обнаруживал немного храбрости, но прибыв в Новочеркасск, тотчас стал проявлять свой шумный председательский патриотизм. По этому поводу уравновешенный и спокойный Каледин дал выражение резкой досаде и раздражению; Родзянко скоро переругался и с ним, и с Алексеевым и уехал на Кубань...
Попав на Дон, мы сразу почувствовали себя в атмосфере, возвращавшей нас к утопическим временам Керенского... Каледин… производил впечатление «заспанного тигра», как его кто-то назвал. Он сидел неподвижно, лицо его никогда не отражало его настроения, и когда он говорил, то он медленно и нехотя ронял каждое слово. …Каледин был конечно совсем не подготовлен к политической деятельности. Пока царствовал Керенский, Донской атаман представлялся полным его антиподом. Вместе с офицерством и не разложившимся еще казачеством, он глубоко возмущался систематической разрухой государства и армии, ему противно было непротивленчество и система «уговариваний». Но когда ему самому пришлось активно заняться политикой и он почувствовал, что волна революции начинает захлестывать Дон, Каледин сам стал на тот же опасный путь соглашательства, который в свое время привел Керенского ко всем последствиям такой политики...
Помощником Каледина был Митрофан Петрович Богаевский... Он был типичным русским интеллигентом, неисправимым мечтателем. Богаевский легко говорил, и в малоинтеллигентной донской среде с малоповоротливыми мозгами его довольно незатейливое красноречие создало ему первое место. Каледин и Богаевский - оба люди совершенно различного воспитания и среды - сходились в одном: полной политической неопытности. При этом они вступили на путь самых рискованных политических экспериментов.
Дон управлялся Казачьим Войсковым Кругом. Избирателями и депутатами могли быть только казаки. Между тем, в процентном отношении казаков было, если не ошибаюсь, 43 процента, а 57 % составляли так называемые «иногородние», в число коих входили как жители городов, так и крестьянское население. У казаков был обширный земельный фонд, каждый казак обладал известной зажиточностью. Рядом с казачьими хуторами были крестьянские слободы, иногда значительно более многолюдные и крайне стесненные землей. Отсюда происходили скрытый, глубокий антагонизм между казаками и крестьянами. Казаки - глубокие эгоисты и шкурники - ненавидели иногородних, но с появлением большевизма начали сильно опасаться их, ибо у иногородних была готовая почва для развития большевизма. Не знаю, была ли то инициатива Богаевского или Каледина, но последний настоял на том, чтобы для управления Доном было образовано паритетное правительство, пополам из казаков и иногородних. В конце декабря в Новочеркасске состоялся съезд иногородних. Настроение съезда было по существу большевицкое. Съезд высказал протест против присутствия на Дону Добровольческой Армии, которая ставит себе задачей борьбу с революционной советской армией...
Настроение Дона создавало крайне тяжелую обстановку для Добровольческой Армии. В самом начале Алексееву пришлось ограничиться заботой о том, чтобы бежавшие на Дон бойцы могли найти в нем хотя бы только убежище и не умерли с голода. Сочувствие, но очень сдержанное, проявлялось лишь немногими деятелями и конкретно не выражалось в каких-либо заботах о беженцах.
…желая использовать полностью кровь добровольцев, их боялись и не любили и всячески не хотели им давать хода. Прежде всего, казаки руководились мыслью: «моя хата с краю». Они чувствовали и мыслили в рамках узкого эгоизма. Их патриотизм в большинстве случаев не шел дальше одного края, иногда - хутора или станицы. Взятие Москвы большевиками произвело на них сильное впечатление и значительно охладило тот показной пыл, который обнаруживался порою в речах на Круге. Они хотели отделить свое маленькое дело от общего, надеясь таким образом лучше уберечься самим от беды. Присутствие нарождающейся Добровольческой Армии в Новочеркасске было как бы бельмом на глазу, притягивало к Дону внимание большевиков, чего больше всего боялись казаки. Они пытались даже договориться с большевиками, посылали делегацию в Москву, но из этих переговоров ничего не вышло. Казаки двоились между мыслью, что без добровольцев им было бы легче договориться, и опасением, что без добровольцев им не оборониться от большевиков. …поведение добровольческой молодежи тоже не способствовало тому, чтобы рассеять недружелюбие. В постоянной напряженной борьбе, чувствуя себя одинокими, добровольцы ожесточались против окружающих равнодушных или неприязненно настроенных к ним людей. Нравы их грубели. Акты героизма и самоотвержения сменялись днями разгула и своеволия. Многие держали себя бестактно и вызывающе...
Появился и Савинков. Против него было сильное возбуждение среди офицеров, и открыто высказывалось намерение его убить.
С свойственной ему энергией и ловкостью, Савинков тотчас принялся обделывать свое дело... Генерал Алексеев лично не питал, конечно, никакого доверия к Савинкову, но, не отличаясь силой воли, он уступал перед железной волей всегда спокойного и всегда знающего, чего хочет, Савинкова. Последний окрутил и генерала Корнилова. Хотя было несомненно, что в деле Корнилова Савинков сыграл самую неблагородную и провокаторскую роль, однако Корнилов дал себя обойти. …Корнилов признал себя удовлетворенным, не желая, как он сам потом мне сказал, чтобы его могли упрекнуть, что им руководят какие-либо личные мотивы.
Заручившись поддержкой командного состава, Савинков приделал особую организацию к Добровольческой Армии. Был основан «Союз Спасения Родины и Свободы». В Совет этого союза на половинных началах должны были войти представители командного состава Добровольческой Армии и несоциалистических партий и представители демократии… Алексеев… говорил, что Совет был ему навязан Калединым, который считал, что без уступок демократии ему не удастся обеспечить дальнейшее пребывание Добровольческой Армии на Дону - это была как бы плата за квартиру. По его словам, другого выхода из положения не было, и с ним приходилось мириться. В конце концов, Совет имел лишь совещательное значение, и все дела вносились в него по усмотрению командования.
Что касается управления Добровольческой Армии, то оно также было построено на сложном компромиссе. Во главе его стоял триумвират: Каледин, Алексеев и Корнилов. Общие принципиальные решения, согласно задуманному плану, должны были решаться этой коллегией трех генералов...
С первых же дней нашего пребывания в Новочеркасске обнаружилось, что между Алексеевым и Корниловым существует острый антагонизм. Они взаимно совершенно не переносили друг друга. Редкое свидание между ними обходилось без обострения и без того натянутых отношений. Дело вначале было еще такое маленькое, что ужиться вместе двум таким властным и честолюбивым натурам было совсем невозможно. Инициатором Добровольческой Армии был генерал Алексеев. Он первый приехал и первый заложил основания всего дела, которое гораздо обычнее носило тогда название «Алексеевской организации», чем Добровольческой Армии. Уже одно это резало уши Корнилову. Последний не мог никогда простить Алексееву его роли в деле его, Корнилова. Он сам мне однажды это высказал. Как мог Алексеев, основатель офицерского союза и всей этой организации в армии, которая имела своей конечной целью произвести военный переворот, как мог он поддержать Керенского, пойти к нему в Начальники Штаба и поехать в Ставку арестовать его, Корнилова? Нельзя не признать, что в постановке такого вопроса была доля правды. Но нужно принять во внимание, что своим вмешательством Алексеев рассчитывал спасти того же Корнилова и его сподвижников и что это ему удалось. Конечно, роль Алексеева была неблагородная, ибо он одновременно выручал Керенского из трудного положения и вскоре должен был уйти, не заслужив благодарности ни с чьей стороны и не прибавив новых лавров к своей репутации. Мне кажется, что он отчасти уступил влечению честолюбия и потребности в деятельности, вне коей он не умел жить. Как бы то ни было, недавнее прошлое служило не к объединению, а к усилению взаимной антипатии между генералами.
Если Корнилов не мог простить Алексееву его роли в августовские дни, то Алексеев находил Корнилова опасным сумасбродом, человеком неуравновешенным и непригодным на первые роли. В свое время он отказал наотрез Гучкову, желавшему назначить Корнилова из Командующего Петроградским военным округом в Главнокомандующего Северным фронтом. Сам Алексеев был в то время Главковерхом и заявил, что уйдет в отставку, если назначение это состоится. Это уже показывает, как, раньше, чем судьба их столкнула, Алексеев не доверял Корнилову. Последний, в свою очередь, считал, что Алексеев во многом виноват в наших неудачах во время войны, и смотрел на него с тем оттенком презрительности, с какой боевые генералы смотрят на кабинетных стратегов.
Поводов для столкновений было сколько угодно. Алексеев, как распорядитель финансами, держал все нити в руках. От природы бережливый и не широкий, он считал денежное положение совершенно необеспеченным и урезывал во всех запросах Корнилова. Между тем, время не ждало. В конце 1917 года можно было за самые сравнительно небольшие деньги приобретать ценное боевое снабжение, пользуясь развалом на нашем фронте» Продавались орудия, снаряды, ружья, пулеметы, - все, что угодно. Алексеев боялся рисковать и остаться ни с чем и часто упускал неповторяемые случаи. Между обоими генералами происходили резкие сцены. Корнилов требовал в свое безотчетное распоряжение крупные суммы.
Область компетенции между генералами не могла быть точно разграничена. На этой почве также все время происходили трения. В первые же дни нашего пребывания отношения дошли до такого обострения, что пришлось нам, общественным деятелям, перебегать от одного генерала к другому, чтобы как-нибудь предотвратить разрыв между ними. Вырабатывались формулы письменных соглашений. Только что мы успели помирить их, как снова вспыхнула история, которая грозила окончательно их рассорить. Виновником оказался Савинков, который раздул какую-то совершенно несостоятельную сплетню, пущенную из контрразведки, в которой были замешаны имена его и Корнилова. Алексеев крайне неудачно согласился «вывести дело на чистую воду», пригласил Корнилова присутствовать при очной ставке, которую хотел устроить с источниками грязной сплетни. Когда Корнилов, не зная, зачем его приглашают, явился и увидел, в чем дело, он пришел в сильный гнев, почувствовал себя оскорбленным, накричал на Алексеева и вышел, не подав ему руки и хлопнув дверью. По счастью, Савинков скоро уехал.
…Корнилова и Алексеева… мне пришлось… видеть в мелких житейских столкновениях...
Обострению отношений между генералами, как всегда, способствовали окружающие их сторонники. Корнилов был по природе доверчив и не разбирался в людях. Этим пользовались разные сомнительные личности... Рознь между генералами не оставалась неизвестной в таком маленьком городке, как Новочеркасск. Она передалась и в самую организацию, сделалась предметом толков и пересуд среди офицерства; последнее разделилось на алексеевцев и корниловцев. Рознь эта удручающе действовала на ближайших сотрудников их по командованию... Одно время Корнилов хотел уйти с армией и со Штабом в Ростов, оставив Алексеева ведать политикой и финансами в Новочеркасске, но последний воспротивился этому и решено было, что оба переедут в Ростов.
Совет союза собирался несколько раз. Оба течения, правое и левое, держались обособленно. Савинков внушал к себе недоверие со стороны правых и чувствовал это. Когда он что-нибудь предлагал, все настораживались и старались отклонить это предложение. Но эта обструкция была поневоле слабой, потому что редко кто из нас вносил, в свою очередь, другое предложение. Между тем, Савинков всегда знал, чего хотел. Он говорил всегда ровным, спокойным голосом, не повышая тона, всегда корректный. Я чувствовал неодолимое отвращение к его холеным рукам, которые невольно притягивали к себе взгляд, - руки террориста-убийцы. Они контрастировали с его энергичным лицом, на котором отразилось движение страсти. В маленьких глазах светился холодный блеск. В нем чувствовалась сила человека, для которого не существует никаких моральных задержек. Казалось, что ему ничего не стоит смахнуть со своего пути всякого кто бы ему мог быть помехой. Террорист, авантюрист, шантажист и патриот, несомненно одаренный и умный, но едва ли способный на великое, потому что лишен всяких нравственных устоев, - таким мне представлялся Савинков. Что касается до его левизны, то мне казалось, что она относительна, что демократия нужна главное, как трамплин, для этого честолюбивого и властолюбивого человека.
Сгруппировав вокруг себя левых, Савинков импонировал им своей холодной волей и авторитетом своей репутации. Он подчинил себе без труда слабовольных неврастеничных интеллигентов, вроде местной донской знаменитости, Павла Агеева, который мог играть роль только в захолустном Новочеркасске... Не находя себе применения в Новочеркасске, Савинков решил уехать... Он уехал в Москву, но одновременно с ним был отправлен Ладыженский, чтобы парализовать при случае какие-либо опасные его выступления. Заседания Совета, с отъездом Штаба в Ростов, прекратились сами собой; в сущности, общих дел было так мало, что не для чего было собираться и говорить...
Приток добровольцев из России был крайне незначителен и не только не увеличивался, но сокращался...
…начали поговаривать о том, что Добровольческой Армии придется уйти с Дона, так как она истекает кровью под нажимом большевиков, а казаки сами вовсе не расположены воевать…
Уже в то время в Добровольческой Армии был сильный ропот на штабных, которые устраивают себе безопасные, выгодные места. Конечно, такие разговоры ведутся всегда и во всех армиях, но нельзя было не признать, что в данном случае они имели больше основания и что самый принцип добровольчества должен был бы побудить высшее командование относиться к таким сетованиям с большим вниманием.
Были и другие недостатки в организации штаба и, быть может, в самом ведении войны. В штабе все велось по старым приемам. Разведка была из рук вон плохая, зачастую питались непроверенными паническими сведениями, которые оказывались вымышленными, но иногда являлись в числе решающих мотивов. …в штабах не умели отучиться от легкого распоряжения человеческими жизнями, хотя они были настолько драгоценны в данных условиях. Рядом с этим, не умели пользоваться и партизанскими приемами борьбы, смелыми инициативами, которые не входили в рамки кабинетной стратегии. Начальство продолжало быть далеким от жизни и от людей... Духом были сильны, а организоваться не умели.
Припоминаю такой случай. С нами из Москвы приехал старший сын Струве, Глеб, очень милый юноша 20 лет, который тотчас поступил в Добровольческую Армию. Его через 3-4 дня отправили вместе с отрядом… был дан наказ отнюдь не предпринимать военных действий против казаков, ни при каких условиях. Это был тогда общий лозунг: война ведется против большевиков, а не казаков, хотя между последними было гораздо больше большевиков, чем их противников. Молодого Струве не спросили даже, обучен ли он строю, умеет ли владеть винтовкой... На одной из станций их окружил казачий полк, арестовал и препроводил к большевикам в Новороссийск… Было полное основание опасаться, что все наши будут утоплены большевиками-матросами. По счастью, этого не случилось, но Струве-отец до конца своего пребывания в Новороссийске ничего не знал о судьбе сына, и только по возвращении в Москву его жене Нине Александровне удалось съездить в Новороссийск и вызволить из тюрьмы своего сына. Это был один из инцидентов, характеризовавших то легкомысленное отношение Штаба, которое могло стоить жизни отряду, по тогдашним понятиям, значительному. /От себя: а ещё это был один из инцидентов, характеризовавших ужасы красного террора./
Свадьба Осоргиных была назначена на Воскресенье 29 января... Перед самой свадьбой в церковь пришли сказать, что Каледин только что застрелился...
После церкви все поехали к Гагариным, где было приготовлено великолепное угощение... Было высказано предположение, что надо успокоить публику, взволнованную слухом об уходе добровольцев, и поддержать в Новочеркасске кандидатуру в атаманы генерала Назарова. По поводу заметки, которую следовало поместить в газетах, между Алексеевым и Корниловым снова произошла резкая перебранка в присутствии всех нас. Алексеев начал было писать текст заметки, а Корнилов напал на него за то, что он вмешивается в его компетенцию и делает заявление от своего имени. Всем нам тягостно было присутствовать при этом. Деникин не вытерпел и со словами: «Чорт знает, что такое! В такое время заниматься подобными разговорами!» вышел из комнаты, хлопнув дверью. Это несколько образумило обоих генералов, которые чувствовали себя пристыженными и замолчали. Деникину было потом неприятно, что он нарушил дисциплину. Но, как Корнилов, так и Алексеев оба ценили и уважали его прямоту и понимали, конечно, что сами оконфузились...
Круг объявил мобилизацию. Самоубийство Каледина, надвигающаяся опасность большевизма - все это, как будто, пробудило на минуту сонное сознание казаков. Из станиц, окружающих Новочеркасск, приходило порою все взрослое мужское население... Но здесь появилось роковое неумение организоваться. Донской штаб в ту пору представлял собою вообще довольно жалкую канцелярию. …казаки приходили из станиц и для них не всегда были готовы помещения и пища. Никто о них не заботился, начальство ими не занималось. Зато ими занимались местные большевики и в 2-3 дня обрабатывали на славу. Им показывали на праздно шатающуюся толпу на Московской и Платовской (главных улицах Новочеркасска), на ярко освещенные по вечерам кинематографы, куда ломилась эта публика, и им говорили: «Что же вы хотите проливать кровь ради всех этих дармоедов, буржуев? Что вам сделали большевики? Чего вы их боитесь? Они стоят за простой народ, за вас же, а вы будете воевать, чтобы новочеркасские буржуи могли спокойно спать и ничего не делать?» - Под влиянием таких речей пыл скоро охладевал. Бывали случаи, что целая станица, пришедшая с утра, наполовину расходилась к вечеру.
…Круг постановил суровые кары за уклонение от мобилизации, вплоть до расстрела, и вообще готов был на какие угодно решительные меры. Но увы... со всем этим было запоздано. Слова не запугивали, потому что у власти не было силы привести их в исполнение. Назаров принял на себя звание атамана, как тяжелый крест; он был такой же обреченный, как и Каледин...
В ближайшие же дни выяснилось, что казачья мобилизация провалилась, что все пришедшие разошлись. Совершенно неожиданно вдруг в Новочеркасск вошел конный казачий полк, вернувшийся с фронта. Казалось, что полк этот совершенно здоровый и готов идти, куда его пошлют. Все воспряли духом. Полк угощали, ему держали речи, потом его отправили на фронт, но… казаки разошлись по домам, не обнаружив никакого желания сражаться.
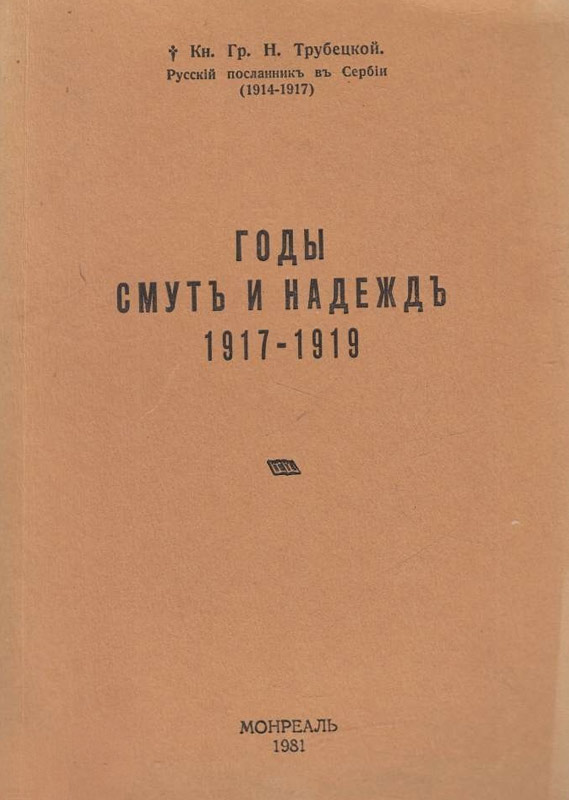
Ноябрь и декабрь месяцы 1917 года прошли в бесплодных попытках московского Правого Центра изыскать крупные материальные силы для поддержки дела создания Добровольческой Армии, предпринятой в Новочеркасске генералом Алексеевым. Мне пришлось по этому делу дважды ездить из Москвы в Петроград, сначала - одному, потом с Кривошеиным и Д. М. Щепкиным. Мы хотели вступить в связь с союзниками. Иностранные посольства в Петрограде находились в то время в состоянии страха перед Троцким и жалкой растерянности. Дипломаты считали большевиков способными на что угодно и боялись, что с ними, в случае чего, не станут церемониться, но попросту свезут в Петропавловскую крепость. Больше всего эта мысль страшила жену английского посланника Бьюкенона; еще весной, после февральской революции, ее пугал этой перспективой приезжавший в Россию французский министр-социалист Альбер Тома.
[Читать далее]Бьюкенэн отказывался кого бы то ни было принимать иди даже видаться в нейтральном месте... Нас свели в нейтральном месте с английским военным агентом майором Киз. Последний также развивал крайнюю конспиративность. Кривошеину он обещал принципиально крупную материальную поддержку; больше всего его озабочивал вопрос о том, как переправить деньги в Новочеркасск.
В московских финансовых кругах все попытки наши достать крупные суммы ни к чему не привели... Веры в начинавшееся дело было немного, и большинство, несмотря на удары судьбы, все еще держались взгляда: зачем буду давать я, если, может быть, другой даст за меня? Всего-навсего в Москве собрали несколько сот тысяч рублей. Часть этих денег была истрачена на содержание военной организации в самой Москве, а другая часть послана была генералу Алексееву.
Раньше всех в Новочеркасск уехал инженер Н. Н. Лебеденко, принимавший деятельное участие в вооруженной борьбе, которая предшествовала утверждению большевиков в Москве. Пробыв недели две в Новочеркасске, Лебеденко вернулся на короткое время в Москву...
В Москве существовало розовое представление о Доне и казачестве. Издали казалось, что Дон является твердым консервативным устоем, о который разобьется большевицкая пропаганда, что казаки стоят определенно на почве единой великой России и что у них и от них начнется дело ее возрождения.
По прибытии в Новочеркасск генералу Алексееву с первых же шагов пришлось убедиться в том, насколько обстановка на Дону сложнее той, которая, может быть, и ему рисовалась до приезда. Донской атаман ген. Каледин принял Алексеева дружественно, но просил его сохранять инкогнито...
Каледин считал необходимым проявлять величайшую сдержанность и осторожность, чтобы не всполошить казаков, настроение коих он знал, конечно, гораздо лучше, чем те, кому пришлось пережить впоследствии на их счет горькие иллюзии.
В начале ноября в Новочеркасск приехал Председатель Государственной Думы, М. В. Родзянко... У себя на Фурштадтской он обнаруживал немного храбрости, но прибыв в Новочеркасск, тотчас стал проявлять свой шумный председательский патриотизм. По этому поводу уравновешенный и спокойный Каледин дал выражение резкой досаде и раздражению; Родзянко скоро переругался и с ним, и с Алексеевым и уехал на Кубань...
Попав на Дон, мы сразу почувствовали себя в атмосфере, возвращавшей нас к утопическим временам Керенского... Каледин… производил впечатление «заспанного тигра», как его кто-то назвал. Он сидел неподвижно, лицо его никогда не отражало его настроения, и когда он говорил, то он медленно и нехотя ронял каждое слово. …Каледин был конечно совсем не подготовлен к политической деятельности. Пока царствовал Керенский, Донской атаман представлялся полным его антиподом. Вместе с офицерством и не разложившимся еще казачеством, он глубоко возмущался систематической разрухой государства и армии, ему противно было непротивленчество и система «уговариваний». Но когда ему самому пришлось активно заняться политикой и он почувствовал, что волна революции начинает захлестывать Дон, Каледин сам стал на тот же опасный путь соглашательства, который в свое время привел Керенского ко всем последствиям такой политики...
Помощником Каледина был Митрофан Петрович Богаевский... Он был типичным русским интеллигентом, неисправимым мечтателем. Богаевский легко говорил, и в малоинтеллигентной донской среде с малоповоротливыми мозгами его довольно незатейливое красноречие создало ему первое место. Каледин и Богаевский - оба люди совершенно различного воспитания и среды - сходились в одном: полной политической неопытности. При этом они вступили на путь самых рискованных политических экспериментов.
Дон управлялся Казачьим Войсковым Кругом. Избирателями и депутатами могли быть только казаки. Между тем, в процентном отношении казаков было, если не ошибаюсь, 43 процента, а 57 % составляли так называемые «иногородние», в число коих входили как жители городов, так и крестьянское население. У казаков был обширный земельный фонд, каждый казак обладал известной зажиточностью. Рядом с казачьими хуторами были крестьянские слободы, иногда значительно более многолюдные и крайне стесненные землей. Отсюда происходили скрытый, глубокий антагонизм между казаками и крестьянами. Казаки - глубокие эгоисты и шкурники - ненавидели иногородних, но с появлением большевизма начали сильно опасаться их, ибо у иногородних была готовая почва для развития большевизма. Не знаю, была ли то инициатива Богаевского или Каледина, но последний настоял на том, чтобы для управления Доном было образовано паритетное правительство, пополам из казаков и иногородних. В конце декабря в Новочеркасске состоялся съезд иногородних. Настроение съезда было по существу большевицкое. Съезд высказал протест против присутствия на Дону Добровольческой Армии, которая ставит себе задачей борьбу с революционной советской армией...
Настроение Дона создавало крайне тяжелую обстановку для Добровольческой Армии. В самом начале Алексееву пришлось ограничиться заботой о том, чтобы бежавшие на Дон бойцы могли найти в нем хотя бы только убежище и не умерли с голода. Сочувствие, но очень сдержанное, проявлялось лишь немногими деятелями и конкретно не выражалось в каких-либо заботах о беженцах.
…желая использовать полностью кровь добровольцев, их боялись и не любили и всячески не хотели им давать хода. Прежде всего, казаки руководились мыслью: «моя хата с краю». Они чувствовали и мыслили в рамках узкого эгоизма. Их патриотизм в большинстве случаев не шел дальше одного края, иногда - хутора или станицы. Взятие Москвы большевиками произвело на них сильное впечатление и значительно охладило тот показной пыл, который обнаруживался порою в речах на Круге. Они хотели отделить свое маленькое дело от общего, надеясь таким образом лучше уберечься самим от беды. Присутствие нарождающейся Добровольческой Армии в Новочеркасске было как бы бельмом на глазу, притягивало к Дону внимание большевиков, чего больше всего боялись казаки. Они пытались даже договориться с большевиками, посылали делегацию в Москву, но из этих переговоров ничего не вышло. Казаки двоились между мыслью, что без добровольцев им было бы легче договориться, и опасением, что без добровольцев им не оборониться от большевиков. …поведение добровольческой молодежи тоже не способствовало тому, чтобы рассеять недружелюбие. В постоянной напряженной борьбе, чувствуя себя одинокими, добровольцы ожесточались против окружающих равнодушных или неприязненно настроенных к ним людей. Нравы их грубели. Акты героизма и самоотвержения сменялись днями разгула и своеволия. Многие держали себя бестактно и вызывающе...
Появился и Савинков. Против него было сильное возбуждение среди офицеров, и открыто высказывалось намерение его убить.
С свойственной ему энергией и ловкостью, Савинков тотчас принялся обделывать свое дело... Генерал Алексеев лично не питал, конечно, никакого доверия к Савинкову, но, не отличаясь силой воли, он уступал перед железной волей всегда спокойного и всегда знающего, чего хочет, Савинкова. Последний окрутил и генерала Корнилова. Хотя было несомненно, что в деле Корнилова Савинков сыграл самую неблагородную и провокаторскую роль, однако Корнилов дал себя обойти. …Корнилов признал себя удовлетворенным, не желая, как он сам потом мне сказал, чтобы его могли упрекнуть, что им руководят какие-либо личные мотивы.
Заручившись поддержкой командного состава, Савинков приделал особую организацию к Добровольческой Армии. Был основан «Союз Спасения Родины и Свободы». В Совет этого союза на половинных началах должны были войти представители командного состава Добровольческой Армии и несоциалистических партий и представители демократии… Алексеев… говорил, что Совет был ему навязан Калединым, который считал, что без уступок демократии ему не удастся обеспечить дальнейшее пребывание Добровольческой Армии на Дону - это была как бы плата за квартиру. По его словам, другого выхода из положения не было, и с ним приходилось мириться. В конце концов, Совет имел лишь совещательное значение, и все дела вносились в него по усмотрению командования.
Что касается управления Добровольческой Армии, то оно также было построено на сложном компромиссе. Во главе его стоял триумвират: Каледин, Алексеев и Корнилов. Общие принципиальные решения, согласно задуманному плану, должны были решаться этой коллегией трех генералов...
С первых же дней нашего пребывания в Новочеркасске обнаружилось, что между Алексеевым и Корниловым существует острый антагонизм. Они взаимно совершенно не переносили друг друга. Редкое свидание между ними обходилось без обострения и без того натянутых отношений. Дело вначале было еще такое маленькое, что ужиться вместе двум таким властным и честолюбивым натурам было совсем невозможно. Инициатором Добровольческой Армии был генерал Алексеев. Он первый приехал и первый заложил основания всего дела, которое гораздо обычнее носило тогда название «Алексеевской организации», чем Добровольческой Армии. Уже одно это резало уши Корнилову. Последний не мог никогда простить Алексееву его роли в деле его, Корнилова. Он сам мне однажды это высказал. Как мог Алексеев, основатель офицерского союза и всей этой организации в армии, которая имела своей конечной целью произвести военный переворот, как мог он поддержать Керенского, пойти к нему в Начальники Штаба и поехать в Ставку арестовать его, Корнилова? Нельзя не признать, что в постановке такого вопроса была доля правды. Но нужно принять во внимание, что своим вмешательством Алексеев рассчитывал спасти того же Корнилова и его сподвижников и что это ему удалось. Конечно, роль Алексеева была неблагородная, ибо он одновременно выручал Керенского из трудного положения и вскоре должен был уйти, не заслужив благодарности ни с чьей стороны и не прибавив новых лавров к своей репутации. Мне кажется, что он отчасти уступил влечению честолюбия и потребности в деятельности, вне коей он не умел жить. Как бы то ни было, недавнее прошлое служило не к объединению, а к усилению взаимной антипатии между генералами.
Если Корнилов не мог простить Алексееву его роли в августовские дни, то Алексеев находил Корнилова опасным сумасбродом, человеком неуравновешенным и непригодным на первые роли. В свое время он отказал наотрез Гучкову, желавшему назначить Корнилова из Командующего Петроградским военным округом в Главнокомандующего Северным фронтом. Сам Алексеев был в то время Главковерхом и заявил, что уйдет в отставку, если назначение это состоится. Это уже показывает, как, раньше, чем судьба их столкнула, Алексеев не доверял Корнилову. Последний, в свою очередь, считал, что Алексеев во многом виноват в наших неудачах во время войны, и смотрел на него с тем оттенком презрительности, с какой боевые генералы смотрят на кабинетных стратегов.
Поводов для столкновений было сколько угодно. Алексеев, как распорядитель финансами, держал все нити в руках. От природы бережливый и не широкий, он считал денежное положение совершенно необеспеченным и урезывал во всех запросах Корнилова. Между тем, время не ждало. В конце 1917 года можно было за самые сравнительно небольшие деньги приобретать ценное боевое снабжение, пользуясь развалом на нашем фронте» Продавались орудия, снаряды, ружья, пулеметы, - все, что угодно. Алексеев боялся рисковать и остаться ни с чем и часто упускал неповторяемые случаи. Между обоими генералами происходили резкие сцены. Корнилов требовал в свое безотчетное распоряжение крупные суммы.
Область компетенции между генералами не могла быть точно разграничена. На этой почве также все время происходили трения. В первые же дни нашего пребывания отношения дошли до такого обострения, что пришлось нам, общественным деятелям, перебегать от одного генерала к другому, чтобы как-нибудь предотвратить разрыв между ними. Вырабатывались формулы письменных соглашений. Только что мы успели помирить их, как снова вспыхнула история, которая грозила окончательно их рассорить. Виновником оказался Савинков, который раздул какую-то совершенно несостоятельную сплетню, пущенную из контрразведки, в которой были замешаны имена его и Корнилова. Алексеев крайне неудачно согласился «вывести дело на чистую воду», пригласил Корнилова присутствовать при очной ставке, которую хотел устроить с источниками грязной сплетни. Когда Корнилов, не зная, зачем его приглашают, явился и увидел, в чем дело, он пришел в сильный гнев, почувствовал себя оскорбленным, накричал на Алексеева и вышел, не подав ему руки и хлопнув дверью. По счастью, Савинков скоро уехал.
…Корнилова и Алексеева… мне пришлось… видеть в мелких житейских столкновениях...
Обострению отношений между генералами, как всегда, способствовали окружающие их сторонники. Корнилов был по природе доверчив и не разбирался в людях. Этим пользовались разные сомнительные личности... Рознь между генералами не оставалась неизвестной в таком маленьком городке, как Новочеркасск. Она передалась и в самую организацию, сделалась предметом толков и пересуд среди офицерства; последнее разделилось на алексеевцев и корниловцев. Рознь эта удручающе действовала на ближайших сотрудников их по командованию... Одно время Корнилов хотел уйти с армией и со Штабом в Ростов, оставив Алексеева ведать политикой и финансами в Новочеркасске, но последний воспротивился этому и решено было, что оба переедут в Ростов.
Совет союза собирался несколько раз. Оба течения, правое и левое, держались обособленно. Савинков внушал к себе недоверие со стороны правых и чувствовал это. Когда он что-нибудь предлагал, все настораживались и старались отклонить это предложение. Но эта обструкция была поневоле слабой, потому что редко кто из нас вносил, в свою очередь, другое предложение. Между тем, Савинков всегда знал, чего хотел. Он говорил всегда ровным, спокойным голосом, не повышая тона, всегда корректный. Я чувствовал неодолимое отвращение к его холеным рукам, которые невольно притягивали к себе взгляд, - руки террориста-убийцы. Они контрастировали с его энергичным лицом, на котором отразилось движение страсти. В маленьких глазах светился холодный блеск. В нем чувствовалась сила человека, для которого не существует никаких моральных задержек. Казалось, что ему ничего не стоит смахнуть со своего пути всякого кто бы ему мог быть помехой. Террорист, авантюрист, шантажист и патриот, несомненно одаренный и умный, но едва ли способный на великое, потому что лишен всяких нравственных устоев, - таким мне представлялся Савинков. Что касается до его левизны, то мне казалось, что она относительна, что демократия нужна главное, как трамплин, для этого честолюбивого и властолюбивого человека.
Сгруппировав вокруг себя левых, Савинков импонировал им своей холодной волей и авторитетом своей репутации. Он подчинил себе без труда слабовольных неврастеничных интеллигентов, вроде местной донской знаменитости, Павла Агеева, который мог играть роль только в захолустном Новочеркасске... Не находя себе применения в Новочеркасске, Савинков решил уехать... Он уехал в Москву, но одновременно с ним был отправлен Ладыженский, чтобы парализовать при случае какие-либо опасные его выступления. Заседания Совета, с отъездом Штаба в Ростов, прекратились сами собой; в сущности, общих дел было так мало, что не для чего было собираться и говорить...
Приток добровольцев из России был крайне незначителен и не только не увеличивался, но сокращался...
…начали поговаривать о том, что Добровольческой Армии придется уйти с Дона, так как она истекает кровью под нажимом большевиков, а казаки сами вовсе не расположены воевать…
Уже в то время в Добровольческой Армии был сильный ропот на штабных, которые устраивают себе безопасные, выгодные места. Конечно, такие разговоры ведутся всегда и во всех армиях, но нельзя было не признать, что в данном случае они имели больше основания и что самый принцип добровольчества должен был бы побудить высшее командование относиться к таким сетованиям с большим вниманием.
Были и другие недостатки в организации штаба и, быть может, в самом ведении войны. В штабе все велось по старым приемам. Разведка была из рук вон плохая, зачастую питались непроверенными паническими сведениями, которые оказывались вымышленными, но иногда являлись в числе решающих мотивов. …в штабах не умели отучиться от легкого распоряжения человеческими жизнями, хотя они были настолько драгоценны в данных условиях. Рядом с этим, не умели пользоваться и партизанскими приемами борьбы, смелыми инициативами, которые не входили в рамки кабинетной стратегии. Начальство продолжало быть далеким от жизни и от людей... Духом были сильны, а организоваться не умели.
Припоминаю такой случай. С нами из Москвы приехал старший сын Струве, Глеб, очень милый юноша 20 лет, который тотчас поступил в Добровольческую Армию. Его через 3-4 дня отправили вместе с отрядом… был дан наказ отнюдь не предпринимать военных действий против казаков, ни при каких условиях. Это был тогда общий лозунг: война ведется против большевиков, а не казаков, хотя между последними было гораздо больше большевиков, чем их противников. Молодого Струве не спросили даже, обучен ли он строю, умеет ли владеть винтовкой... На одной из станций их окружил казачий полк, арестовал и препроводил к большевикам в Новороссийск… Было полное основание опасаться, что все наши будут утоплены большевиками-матросами. По счастью, этого не случилось, но Струве-отец до конца своего пребывания в Новороссийске ничего не знал о судьбе сына, и только по возвращении в Москву его жене Нине Александровне удалось съездить в Новороссийск и вызволить из тюрьмы своего сына. Это был один из инцидентов, характеризовавших то легкомысленное отношение Штаба, которое могло стоить жизни отряду, по тогдашним понятиям, значительному. /От себя: а ещё это был один из инцидентов, характеризовавших ужасы красного террора./
Свадьба Осоргиных была назначена на Воскресенье 29 января... Перед самой свадьбой в церковь пришли сказать, что Каледин только что застрелился...
После церкви все поехали к Гагариным, где было приготовлено великолепное угощение... Было высказано предположение, что надо успокоить публику, взволнованную слухом об уходе добровольцев, и поддержать в Новочеркасске кандидатуру в атаманы генерала Назарова. По поводу заметки, которую следовало поместить в газетах, между Алексеевым и Корниловым снова произошла резкая перебранка в присутствии всех нас. Алексеев начал было писать текст заметки, а Корнилов напал на него за то, что он вмешивается в его компетенцию и делает заявление от своего имени. Всем нам тягостно было присутствовать при этом. Деникин не вытерпел и со словами: «Чорт знает, что такое! В такое время заниматься подобными разговорами!» вышел из комнаты, хлопнув дверью. Это несколько образумило обоих генералов, которые чувствовали себя пристыженными и замолчали. Деникину было потом неприятно, что он нарушил дисциплину. Но, как Корнилов, так и Алексеев оба ценили и уважали его прямоту и понимали, конечно, что сами оконфузились...
Круг объявил мобилизацию. Самоубийство Каледина, надвигающаяся опасность большевизма - все это, как будто, пробудило на минуту сонное сознание казаков. Из станиц, окружающих Новочеркасск, приходило порою все взрослое мужское население... Но здесь появилось роковое неумение организоваться. Донской штаб в ту пору представлял собою вообще довольно жалкую канцелярию. …казаки приходили из станиц и для них не всегда были готовы помещения и пища. Никто о них не заботился, начальство ими не занималось. Зато ими занимались местные большевики и в 2-3 дня обрабатывали на славу. Им показывали на праздно шатающуюся толпу на Московской и Платовской (главных улицах Новочеркасска), на ярко освещенные по вечерам кинематографы, куда ломилась эта публика, и им говорили: «Что же вы хотите проливать кровь ради всех этих дармоедов, буржуев? Что вам сделали большевики? Чего вы их боитесь? Они стоят за простой народ, за вас же, а вы будете воевать, чтобы новочеркасские буржуи могли спокойно спать и ничего не делать?» - Под влиянием таких речей пыл скоро охладевал. Бывали случаи, что целая станица, пришедшая с утра, наполовину расходилась к вечеру.
…Круг постановил суровые кары за уклонение от мобилизации, вплоть до расстрела, и вообще готов был на какие угодно решительные меры. Но увы... со всем этим было запоздано. Слова не запугивали, потому что у власти не было силы привести их в исполнение. Назаров принял на себя звание атамана, как тяжелый крест; он был такой же обреченный, как и Каледин...
В ближайшие же дни выяснилось, что казачья мобилизация провалилась, что все пришедшие разошлись. Совершенно неожиданно вдруг в Новочеркасск вошел конный казачий полк, вернувшийся с фронта. Казалось, что полк этот совершенно здоровый и готов идти, куда его пошлют. Все воспряли духом. Полк угощали, ему держали речи, потом его отправили на фронт, но… казаки разошлись по домам, не обнаружив никакого желания сражаться.