Рассказ Бориш Палотаи
Совместное производство
После просмотра отснятого материала немецкий режиссер Хаберманн обнял поочерёдно всех членов съёмочной группы совместного фильма, а писательнице, автору сценария, поцеловал руку.
- Хотелось бы отпраздновать этот знаменательный день. Для меня наш совместный фильм значит гораздо больше, чем просто творческая удача. До этого я поставил четырнадцать фильмов, но ни разу не испытывал чувства глубокого удовлетворения оттого, что вношу вклад в дело, с которым солидарен каждой клеточкой души.
- Спорим, сейчас пойдёт мелить про душевное волнение, - шепнул бородатый оператор. - И тут возможны дубли…
Писательница одёрнула оператора взглядом, и парень умолк.
- Нельзя без глубокого душевного волнения сознавать, что именно нам довелось создать этот обвинительный приговор насилию, этот апофеоз антифашизма.
- По-моему, надо бы подсократить ту часть, где евреев угоняют в концлагерь, а то она получилась слишком затянутой.
- Бесчеловечность тоже оказалась затянутой на долгие годы. - На лице Хаберманна красными пятнами проступило волнение.
Писательница непроизвольно стиснула его руку. В памяти её промелькнули наглухо заколоченные вагоны, до отказа набитые людьми, бесконечно долгие, похожие одна на другую ночи, перемежающиеся пепельно-серыми рассветами.
- Сколько вам лет?
- Сорок пять. - Хаберманн провёл рукой по голове, пригладил целлофаново-пепельную шевелюру. - Впрочем, календарные годы не в счёт. Отсчёт человеческой жизни начинается с того, что ты делаешь. Если человек делает свое дело сознательно, по убеждению, то это помогает сохранить молодость. А работа по принуждению выжимает все соки.
- Что-то трёп сегодня затянулся, - недовольно пробурчал оператор. - Пора переходить к делу! На парадном ужине мы не настаиваем. Терпеть не могу официальщину, все эти тосты, сдобренные майонезом!
- Что ж, по-твоему, совсем отказаться от жратвы? - взбунтовался Бона, младший ассистент; он вел ежедневный учёт сэкономленных средств. (Обошёлся без такси - двадцать форинтов уцелели, не пришлось покупать цветы для Лонци - ещё двадцать пять, вместо обеда перехватил два бутерброда - вот тебе ещё двадцать восемь форинтов. А сейчас вроде бы наклёвывается ужин по первому классу, так что, считай, и вовсе полсотни в кармане.)
Писательница чувствовала себя усталой и опустошённой. Тени прошлого ворвались в её одиночество, нарушили привычный распорядок жизни. Хорошо бы забыться сном… Сон - лучшее спасение от всколыхнутых воспоминаний, которые, казалось, были надежно погребены под прахом лет. Всему виною этот фильм: вновь возникло лицо дочери, истаявшее струйкой дыма. На обоях в комнате проступили детские рисунки цветными мелками: домики и солнце, пузатое, с лучами, изогнутыми, как паучьи лапы; лучи эти жгли её, не давая покоя даже во сне. В глубине бельевого шкафа шевельнулась лыжная шапочка с помпоном, детский комбинезончик ожил и пустился бежать, игрушечное ведёрко загромыхало, перекрывая стук пишущей машинки; из мягкого круга света, отбрасываемого настольной лампой, ей подмигнул детский глаз, дернулось красноватое, воспалённое веко: у Эвики то и дело вскакивал ячмень на глазу. Последние ночи писательница спала тревожно, поминутно просыпалась: скоро утро, Дюла спит, как обычно, слева, пора его будить. Но только вдовья постель отзывалась скрипом на эти тревоги. Дюла, воскрешённый в сценарии, обнимал её отвыкшие от объятий плечи, его мысли были созвучны её собственным думам, неожиданно всплывали обрывки фраз, канувшие в небытие голоса. Актер, занятый в роли Дюлы, держался сутуловато, ходил раскачивающейся походкой; почему она изобразила его таким, почему упрямо цеплялась за реальный прообраз? Очки… портфель, вечно набитый битком… Нет, необходимо куда-нибудь уехать, забиться в глушь. Может быть, там удастся выплакаться, она забыла, когда плакала в последний раз.
- К чему эти официальные празднества? Мы искренне благодарны вам, дорогой Курт, - она впервые назвала режиссера по имени, - за то, что вы отнеслись к нашей работе с таким пониманием и сочувствием…
- Ну, конечно, о моём участии - ни слова! - обиженно перебил её завлит. - А между тем именно я вставил сцену с женским оркестром. Вы забыли включить её в сценарий, просто рассказали мне на словах, и, ей-богу, по-моему, это самая сильная сцена в фильме, когда оборванные, наголо стриженные женщины по команде затягивают: та-ра-ра-ра, mein Herz, was willst du noch mehr? [Сердце моё, чего ещё тебе хочется? (нем.)] За одно это, право, стоит выпить! Переведите ему, Валика, что мы полюбили его всей душой, и так далее. Кстати, в данном случае - это чистая правда.
Вали, переводчица киностудии, со вчерашнего дня стала фрау Хаберманн. В съёмочной группе её дразнили «железной девственницей», девчонка хорошенькая на редкость, кожа тонкая и нежная, кажется, прикоснись пальцем - и след останется, ноги длинные, все движения исполнены ритма, так чего ради, спрашивается, она бережёт себя? Бородатый оператор вот уже несколько месяцев подкатывается к ней, Пали, завлит, бомбардирует орхидеями по сто двадцать форинтов, чего ты ждёшь, глупая девчонка, читает она в его бархатных глазах, а он томно вздыхает и силится проникнуть ей в душу, как ребятишки насильно разжимают друг другу стиснутый кулачок, пытаясь узнать, что в нем спрятано.
Вали берет Хаберманна за руку и смеётся; душа её, как птица, готова вспорхнуть и полететь.
- Чего же ты не переводишь? - одергивает её бородатый оператор.
- А я, по-твоему, что делаю?
…Эвика сейчас была бы её ровесницей, думает писательница, глядя на Вали. В их доме жил тогда один мальчуган, вечно замурзанный и диковатый, Эвика собирала для него серебряную фольгу и белые камешки. Никак не в силах она представить себе Эвику взрослой! Волосы у неё на макушке закручивались спиралью, а по бокам распадались прядками, так что уши всегда торчали на виду, хохолок же топорщился кверху; нос моментально обгорал на солнце и лупился. Воображение отказывалось представить этот розовый, точно молодая картофелина, детский носишко на лице взрослой девушки. Движения у Эвики были размашистые, порывистые, она убегала вперёд, потом неслась обратно и снова мчалась вперёд. Плотное облачко дыма, завихрившееся и постепенно растаявшее в воздухе…
- Здорово ты в него втрескалась, Вали!
- Очень заметно?
Хаберманн, коверкая слова, пытается произнести по-венгерски: …нельзя… wie sagt man? [Как это сказать? (нем.)] …забывать, jawohl! Фильм!.. Здесь, внутри… моё сердце…
Все растроганы, каждый норовит пожать ему руку, голос Вали по-прежнему звенит, рвётся ввысь, как птица:
- Понимаете, он был в Швеции. - И глаза, и трепет ресниц, и все лицо её - как открытая книга о минувшей ночи, о томительном до боли счастье, о щемящем блаженстве… Когда они вновь и вновь повторяли друг другу извечные слова: «твой», «твоя», «с тобой», а на рассвете мужчина приподнялся на локте, чтобы видеть её, кончиками пальцев провел по лицу Вали медленно, словно навеки пытаясь запечатлеть в памяти её черты.
- Подумаешь, нашла чем удивить! Я тоже бывал в Швеции. - Бородатый оператор, пыхнув трубкой, машинально извлёк из кармана ключи от автомашины, рассеянно повертел их и засунул обратно. - Валика, ты сегодня будто с перепоя, и под глазами у тебя круги.
- Ты что, не понимаешь? Он бежал в Швецию… тогда, в период нацизма… Работал кем придётся: и чернорабочим, и лифтёром…
Они всей группой вышли во двор. На скамейке занятые в массовке легионеры, раскрашенные в кирпичный тон, дожидались съёмки. Парни слушали радио и записывали номера выигрышей в лото. Один из легионеров сдвигает на затылок каску, почесывает вихры.
- В шесть ноль-ноль у меня рандеву. Она - вдова, у неё отдельная квартира на улице Надор. Одну комнату она по контракту сдает «Интуристу». А всего я получил пятьдесят четыре письма на своё брачное объявление.
Хаберманн изучающе смотрит на небо. Выцветшее блекло-голубое полотно туго натянуто над головой, облачка мелкими хлопьями ваты плывут от горизонта к горизонту.
- И погода какая приятная… Мягкое, не резкое солнце, теплое, как материнское тело. Будто ласкают тебя теплые материнские руки.
- А знаете, хороший вы человек, - задумчиво говорит писательница. - Уверена, что в детстве вы не отрывали крыльев у бабочки и не разрезали червей пополам. Хотя ребенок, как правило, не отдает себе отчёта в собственной жестокости.
- Во мне тоже хватает всего понемножку. Но я стараюсь жить так, чтобы придать смысл нашей жизни. Поэтому иногда мне приходится проявлять суровость или скрывать свои чувства и откладывать сердце в сторонку, как ненужную вещь.
- Ближе к делу: куда и когда мы едем? - вмешивается Бона; конец недели, и ему никак не с руки было бы разменивать последнюю сотню.
- Доброта, обращенная в благодеяние, улетучивается из сердца, - продолжает Хаберманн с полуулыбкой в уголках рта. - Сохранить доброту удается лишь тем людям, которые не делают слишком много добра.
- Кончайте вы эту заумь, - машет рукой оператор. - Куда мы поедем? Палика, возьми на себя организационную часть. По мне, так не обязательно какое-нибудь шикарное заведение.
- Технический персонал, разумеется, тоже с нами, - подключается к разговору Хаберманн, - ну, и ближайшие родственники: жены и невесты, временные невесты и постоянные любовницы.
А он, оказывается, не лишен и чувства юмора, - отмечает про себя писательница. Усталость её понемногу проходит, и она с возрастающим интересом присматривается к Вали, нескрываемо, вызывающе счастливой. Счастье это назойливо бросается в глаза. А способна ли эта девочка сделать что-нибудь ради любимого? Господи, как много она брала на себя, лишь бы спасти Дюлу! Лучше всего она держалась в тех ситуациях, когда всё оборачивалось против них.
- А что, если нам смотаться на лоно природы? - спрашивает Пали. - Но куда именно, пока не скажу.
Оператор с размаху хлопает его по спине.
- Как только мы свёртываем работу, гениальные идеи из тебя так и сыплются.
Статисты-легионеры лениво поднимаются со скамьи.
- …запас не исчерпан. Назавтра у меня новая девица. Эта и фотографию свою в письме прислала. Бабёнка что надо! И кроме того, представляете, у неё собственная вязальная машина… Каждый месяц заколачивает пять тысяч чистыми. Вот только беда, что живет она на четвёртом этаже и в доме без лифта. Невеста без лифта мне не подходит.
- Пешеходные маршруты уже не для меня. - Писательница украдкой разглядывает набухшие вены на икрах. Резкие, как лиловые галочки. А когда-то в молодости они компанией исходили вдоль и поперек будайские горы, лес вставал непролазной чащей, но они продирались сквозь густые заросли бука и дуба, по щиколотку утопая в палой листве, отдающей прелью. А годы спустя они бродили по лесу вдвоём с Дюлой, но теперь им надо было вовремя поспеть домой: в пять вечера начинался комендантский час. Цветущий, живописный край, исполненный покоя и красоты, простирался вокруг, налитая буйными соками природа, источая сладостные ароматы, торжествовала над человеческим убожеством, а она вне себя кричала: это возмутительно, это несправедливо! И неистово обрывала листья, била ногой по древесным стволам, но только каблук у туфли сломался, да ногу она подвернула в щиколотке…
- Мы поедем на машинах; у нас микробус и четыре легковых. Не забудьте прихватить с собой купальник.
- Браво! - Хаберманн хлопает в ладоши. - Брависсимо! Правда, билет на самолёт у меня уже куплен, но ради такого случая… Человек живет не только работой, воскресенья тоже нужны для жизни. А у нас, к тому же, есть повод превратить пятницу в воскресенье.
Компания расположилась на поросшем травой холме, в густой тени деревьев. Зеленый травяной ковёр служит подстилкой, упругие, шелестящие ветки - изголовьем. Вали тщится перевести на немецкий переполняющие её чувства, но даже и на родном языке ей не очень удаётся их выразить. Лицо Хаберманна почти рядом, в сантиметрах от её лица. Он и не пытается придвинуться ближе. Они все равно вместе, даже если не касаются друг друга. В мечтах Вали никогда не плела венков из одуванчиков. Нет, она мечтала, будто мчится в «фиате-500». Это Курт научил её мечтать. На пальце у неё обручальное кольцо, сплетенное из травинок, а ритмичный плеск волн для неё как звуки свадебного марша. Да и не нужен он, свадебный марш! Достаточно того, что Курт касается её мизинца и спрашивает… нет, даже и спрашивать ничего не надо!
- Обед готов! Гарантирую уху и лапшу с творогом. Направление - харчевня «Четверо Серых»! - Пали отхлебывает большой глоток домашней палинки и протягивает бутылку Хаберманну. - Будь здоров, приятель! - Он звучно чмокает режиссера в щеку. - За нашу дружбу. И за то, чтобы её не омрачало ни тщеславие, ни самолюбие. Конкретно выражаясь… Конкретно выражаясь, за то, чтобы тебя не хватил удар, если он получит за наш фильм первую премию. - Мышино-серые глазки-буравчики оператора язвительно помаргивают.
- Слушай, старик, не о том речь. Я и правда его высоко ставлю.
- Всё это ты успеешь прокрутить ему позже, когда он поперхнётся ухой и из глаз у него брызнут слёзы. Надеюсь, уха будет приготовлена по всем правилам: сварена из рыбы трех видов, мелкая рыбёшка протёрта и плавает в рубиново-красном соку, похлебка проперчена на совесть, острая паприка положена целым стручком, вместе с зернышками… И вот когда у нашего любезного друга перехватит дыхание, тут как нельзя кстати будут твои излияния в любви, хоть задницу ему лижи, как у нас повелось! Переведи ему, Вали, что после обеда в интимно-семейном кругу мы завалимся кверху пузом на берегу Дуная переварить жратву, ландшафт холмисто-округлый, как женские формы, так и манит в объятия… а потом сплаваем наперегонки; вечерняя программа - венгерские народные песни у костра, жаркое на открытом огне, джазовая музыка, вопль души под гитару, а под занавес - купание при лунном свете… Ну, что ты на меня уставилась, как глазунья со сковородки?
Писательница поглубже надвинула летнюю соломенную шляпу с широкими полями. Ей доставляли истинное наслаждение и вся эта суматоха вокруг пикника, неистощимое богатство летних красок, и многообразие звуков, сливающихся в равномерный гул. Как безрадостно проходит её жизнь! Работа, повседневная суета, беготня, чашка кофе и снова работа, замкнутость, молчаливость несправедливо обиженного человека (интересно, замечают ли окружающие, что она чувствует себя обиженной?). Дома она держит под рукой жестянку с сухим печеньем и поминутно грызёт его, чтобы поменьше курить, а почему бы, собственно, ей не курить сколько хочется, чего ради беречь себя?! Никто и никогда не спросит у неё, хорошо ли она спала. Да ведь и жаловаться имеет смысл лишь тому человеку, в ком болью отзывается твоя боль. А у неё близких людей нет. Мимолётные интрижки - это не для неё. Иное дело, если бы встретить такого мужчину, рядом с которым её жизнь обрела бы смысл, мужчину, который мог бы служить ей опорой, в то же время не стесняя её свободы. Она пристально разглядывала Хаберманна. Кожа на лбу у него и у глаз тронута мелкой сетью морщинок. Пожалуй, всё дело в них, в этих морщинках: такой человек может понять её одиночество, следуя за нею от фразы к фразе, постичь её замысел, воплотить то, что она долгие годы несла в себе, копила, и тяжкий груз этот нестерпимо теснил грудь, пульсирующей болью отдавался в затылке. Этот человек словно переложил на себя все её страдания. Сколько раз заставлял он Маглоди репетировать сцену, когда героиня фильма сошла с поезда и застыла на перроне, сжавшись в комочек, словно обронённый кем-то узел: «Да не плачьте же, чёрт вас возьми! Вы давно выплакали все слёзы».
Вот и я тоже выплакала все свои слёзы. Если бы удалось выплакаться, то, пожалуй, снова можно было бы обрести способность радоваться, воспринимать мелкие человеческие радости, - вот как сейчас, например… собственно, это ещё не радость, лишь предчувствие радости. Хаберманн, к сожалению, слишком молод для меня, но вместе работать - это уже немало; у общей работы всегда есть общий ритм, связующая сила… Её охватило приятное возбуждение. Иметь близкого человека, о ком заботишься. Прожить полной жизнью десять лет. Или хотя бы пять. Даже два года меня бы устроили.
Обед затянулся допоздна. Ребята из группы технического обслуживания привезли с собой хорошего вина из винодельческого кооператива. Бона ломал голову, как бы под шумок прихватить домой бидончик: у отца скоро день рождения.
Хаберманн с неистощимой нежностью поглаживал колени Валики и рассуждал о том, что проявления гуманизма зачастую вырождаются в пустой формализм, он же со своей стороны… Пали с приторно-преувеличенным усердием поддакивал, провожая взглядом каждое движение пальцев Хаберманна, блаженно замиравших у округлого изгиба; при этом режиссер повышал голос, словно желая заглушить беспокойный шорох Валики, волнением отвечавшей на его ласки. Солнечные лучи зигзагами пробивались сквозь кроны деревьев, и под их прикосновением сворачивались, никли цветки ипомеи, оплетающей беседку.
- Есть у меня одна заветная идея… но я до сих пор никак не решалась к ней подступиться. - Писательница сорвала цветок ипомеи, машинально растерла его на ладони. - Хотя она засела в глубине души и не даёт мне покоя.
- Я помогу вам вытащить её на поверхность! До тех пор стану мучить вас… А, что я слышу! Кто это так прекрасно играет на флейте?
- Да ещё после плотного закусона! - откликнулся оператор. - Самое время сматываться отсюда. Пали наверняка облюбовал для нас какой-нибудь тенистый уголок. Наших гостей-иностранцев мы всегда стараемся попотчевать шелестом дубравы.
Компания расположилась на берегу Дуная, смех упругим мячом летал среди прибрежных деревьев, весёлые голоса подзадоривали, перебивали друг друга, шелестела сбрасываемая одежда; Вали уже успела переодеться в бикини, тело её было покрыто таким ровным загаром, как будто её подрумянивали на вертеле, груди, словно чуткие радары, сами собой поворачивались в сторону Хаберманна, а тот настойчиво уговаривал писательницу не откладывать в долгий ящик, пусть она немедля принимается за работу, приезжает в Берлин, а там они сообща… Они станут спорить ночи напролет, ночью у него так ясно работает голова; будь его воля, он бы прямо сию минуту отправил её домой, писать, отделывать сценарий.
Писательница рассмеялась - коротко, навскрик, будто человек, нежданно-негаданно обнаруживший давно утерянную вещь. Он, он сам высказал вслух то, о чём она втайне мечтала! Через три недели у неё будет паспорт в кармане. Номер в гостинице не потребуется, хватит с неё и небольшой квартирки с клетушкой-кухней, можно будет стряпать самой и угощать его новыми, необычными блюдами. Общая работа - это таинственная, неразгаданная связь людей. Духовный союз двух человек, которые с одинаковой страстью вступаются за униженных, с одинаково пытливым интересом присматриваются к пробуждающейся улице, к обнявшейся влюбленной парочке, неожиданно вынырнувшей из зыбкого предрассветного сумрака, к стрельчатым кронам акаций, стиснутых асфальтом, ко множеству ничего не значащих подробностей и ко множеству деталей, исполненных значимости.
- Это не к спеху, - сказала она, напрашиваясь на уговоры. - Я постараюсь так распределить своё время, чтобы подключиться сразу же…
- Какой бы ни был неотделанный набросок, присылайте, а ещё лучше, привезите сами. - Хаберманн сдвинул солнечные очки на лоб, его настойчивый взгляд упорно сверлил её руки, проникал через поры под кожу.
- Насколько я понимаю, вы снова вернётесь к нам. - Нежданная радость сделала писательницу великодушной. - Вали действительно очаровательное создание! - И она принялась перечислять все достоинства девушки. Затем, укрывшись за деревом, переоделась в купальник и, отколупывая смолу, капельками пота проступавшую на стволе, оттягивала момент, когда придётся очутиться среди молодых обнажённых тел; она втянет живот и постарается взять язвительно-залихватский тон, чтобы заставить других забыть о её возрасте, об одиноких днях, потому что это не правда, будто она перестаёт быть одинокой, как только начинает писать! Ей так необходим человек, который обронит иногда: я - здесь, рядом… Хаберманн не произносит этих слов и всё же дает ей почувствовать, что он с нею.
Вали натирала маслом для загара бедра и плечи.
- Мы поедем в Швецию.
- Jawohl!
- «Тепло материнского тела»! - насмешливо фыркнул оператор. - По-моему, это пекло адское. В такую духотищу, да с набитым брюхом, я - пас, отказываюсь плавать, утрёпывать за бабами, и никакие рулады на флейте меня тоже не прельщают. А кстати, за каким это чёртом вы тащитесь в Швецию?
- Курт покажет мне все места, где побывал в войну. Мы остановимся в той самой гостинице, где он служил лифтёром. В маленьком ресторанчике будем есть… как называется мясо, запеченное в рокфоре?
- А-а, вот и Маргит! Пристраивайся ко мне под бочок! - махнул рукой оператор. - Местечко в тени - экстра-класс! Кстати, выглядишь ты прелестно! Сколько тебе, пятьдесят три? Больше пятидесяти двух никак не дашь!
Писательница расстелила на траве купальный халат. Изуродованные ступни - пальцы на ногах были отморожены во время бесконечных выстаиваний на аппельплацу - она прикрыла полой халата.
- Не мастер я писать сценарии, - говорит она Хаберманну. Она нарочно заставляет упрашивать себя. Ей хочется почувствовать, что для него это действительно важно.
- Самую суть я сумею уловить, а доработаем мы на пару. - Положив голову на колени Вали, он пробурчал нечто невнятное - сплошной набор шипящих.
- По мере того как продвигается работа, нередко меняется и сам замысел.
- Вот-вот! Потому и важно, чтоб вы приехали, тогда вместе мы…
- Хорошо, я согласна, - поспешно перебила она Хаберманна с такой интонацией, которой прежде за собой не замечала.
Большой красный мяч прокатился между ними, несколько раз подпрыгнул на ходу и шлепнулся в воду, разорвав серебристо-ртутную гладь реки.
- А ну, за ним - кто первый! - Хаберманн вскочил и, высоко вскинув руки, помчался вдоль берега; под мышкой у него синело пятно. На первый взгляд могло показаться, будто то был след от сильного ушиба, но тотчас же глаз улавливал и контуры - частые точки, выжженные иглою; у писательницы вырвался протяжный, жалобный стон, как у собаки, которой наступили на лапу.
Лучезарная улыбка, не сходившая с лица Вали и слепившая, точно незатененная электрическая лампочка, сменилась озабоченной гримасой.
- Что случилось? Вам плохо? - Резиновой купальной шапочкой она принялась обмахивать писательнице лицо. - Пожалуйста, сделайте глубокий вдох.
- А ты что, не видела? - недобро ухмыльнулся оператор. - Уж кому-кому, а тебе-то давно следовало заметить.
- Что… что мне следовало…
- Или вы крутили любовь только при потушенных фарах?
- Заткнись! - Завлит долго возится с зажигалкой, спичкой ковыряет фитиль. - Возможен и такой вариант… гм… возможно, что в том сумасшедшем вихре… закрутило и его… не забудь, в те годы он был совсем зелёный юнец… гм… А нам остается только проглотить пилюлю. Другого выхода я не вижу.
Взгляд Вали напряженно упирается в спину Хаберманну, девушка следит, как он с маху бросается в воду и плавно выныривает на поверхность.
- Что случилось? - Девушка машинально продолжает обмахивать повлажневший лоб писательницы.
- Так, мелочи жизни… - Губы оператора растянуты в ниточку, и каждое слово он роняет, будто стряхивает крошки. - У этого типа татуировка под мышкой. Он был эсэсовцем.
- Неправда!
- Правда, - кивает писательница. Она откидывает в сторону купальный халат, и её искривленные, отмороженные пальцы подтверждают: это правда.
На лице Пали, не привыкшего к сложным переживаниям, всеприемлющая улыбка сбивается в растерянную ухмылку.
- А ведь казался таким своим парнем… ну, своим в доску. Наверное… - Оборвав фразу, он встаёт, отряхивает приставшие травинки, цветочную пыльцу. - Чтоб тебе провалиться ко всем чертям!
- Где будем разводить костёр? - подбегает к ним патлатый молодой человек.
- И без костра перебьешься, - оператор натягивает носки.
- Мы натаскаем хворосту. Кирпичами мы запаслись.
- Не нам этим заниматься, - говорит писательница, неотрывно следуя за взглядом Валики: зрачки её мечутся справа налево, слева направо, в них смятение перепуганного насекомого, трепет наколотого на булавку мотылька. - Завтра он улетает. - Хорошая тема, так и просится на бумагу… Бесплодные мечты стареющей климактерички. Эти судорожные попытки ухватиться за несуществующую соломинку. Женщина было уже покорилась старости, как вдруг однажды… У писательницы слегка перехватывает горло, когда она представляет себе припорошённые сединою волосы и поблекшую за зиму вялую кожу, желтизна которой особенно заметна при ярком летнем солнце, и эта самоуверенность, за которою скрывается робость её героини. Она более хрупкая, более ранимая, чем сама Маргит.
Эту черту для своей будущей героини она позаимствует у Валики. Равно как и глаза янтарного цвета; они широко, изумлённо распахиваются, стоит только мужчине… Да, кстати, а каков он, этот мужчина? Пожалуй, замкнутый и немногословный, он не любит привлекать к себе внимание. И конечно, он не похож на Хаберманна… Своей грубоватой честностью и требовательностью… требовательнее всего он относится к самому себе… Фантазия её заработала, выстраивая деталь за деталью, теперь в бескровных муках она сотворит другого Хаберманна и другую Маргит, которая будет все же сродни ей самой.
Хаберманн шутливо целится в них мячом, вот он выходит из воды, садится по-турецки.
- Чудеснейший день! Поплыли на тот берег! Кто со мною?
Руки у Вали бессильно повисли меж колен, лицо серое, как закваска, она поднимает глаза на Хаберманна:
- Ты вовсе и не был в Швеции!
- Но, дорогая… о да, конечно, нужен документ… Ведь мы живём в эпоху документов. - Он смеётся. - Неужели никогда не кончится эта власть бумаг над нами?
Безмолвие, как в аквариуме. Тяжелая, удушливая тишина.
- Пфуй, до чего ленивая компания! Auf! Встать, Пали! Фрау Маргит!
- Мы едем домой…
- Как, уже домой? Но ведь…
- Дождь собирается! - объявляет оператор.
- Пора сматывать удочки, - хрипло добавляет Пали. - Нюхом чую, быть грозе.
Ни единое облачко, даже самое крохотное, не омрачает бескрайней синевы неба.
Хаберманн хочет возразить, но что-то удерживает его. Он молча ждет, пока все соберутся к отъезду.
Сборы проходят в полнейшем безмолвии, и тем назойливее, оглушительнее становится треск кузнечиков.
Перевод Т. Воронкиной.

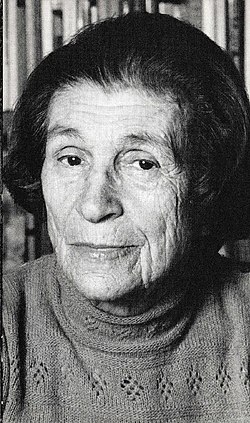
Предыдущий пост о писательнице: https://fem-books.livejournal.com/1938859.html . Сама Палотаи избежала заключения, тогда как её младшая сестра Эржи и зять пережили концентрационный лагерь. В эти дни, оказывается, Венгрия отмечает страшную годовщину прибытия первого транспорта из Венгрии в Аушвиц. У уважаемой френдессы фотографии в посте выложены.
После просмотра отснятого материала немецкий режиссер Хаберманн обнял поочерёдно всех членов съёмочной группы совместного фильма, а писательнице, автору сценария, поцеловал руку.
- Хотелось бы отпраздновать этот знаменательный день. Для меня наш совместный фильм значит гораздо больше, чем просто творческая удача. До этого я поставил четырнадцать фильмов, но ни разу не испытывал чувства глубокого удовлетворения оттого, что вношу вклад в дело, с которым солидарен каждой клеточкой души.
- Спорим, сейчас пойдёт мелить про душевное волнение, - шепнул бородатый оператор. - И тут возможны дубли…
Писательница одёрнула оператора взглядом, и парень умолк.
- Нельзя без глубокого душевного волнения сознавать, что именно нам довелось создать этот обвинительный приговор насилию, этот апофеоз антифашизма.
- По-моему, надо бы подсократить ту часть, где евреев угоняют в концлагерь, а то она получилась слишком затянутой.
- Бесчеловечность тоже оказалась затянутой на долгие годы. - На лице Хаберманна красными пятнами проступило волнение.
Писательница непроизвольно стиснула его руку. В памяти её промелькнули наглухо заколоченные вагоны, до отказа набитые людьми, бесконечно долгие, похожие одна на другую ночи, перемежающиеся пепельно-серыми рассветами.
- Сколько вам лет?
- Сорок пять. - Хаберманн провёл рукой по голове, пригладил целлофаново-пепельную шевелюру. - Впрочем, календарные годы не в счёт. Отсчёт человеческой жизни начинается с того, что ты делаешь. Если человек делает свое дело сознательно, по убеждению, то это помогает сохранить молодость. А работа по принуждению выжимает все соки.
- Что-то трёп сегодня затянулся, - недовольно пробурчал оператор. - Пора переходить к делу! На парадном ужине мы не настаиваем. Терпеть не могу официальщину, все эти тосты, сдобренные майонезом!
- Что ж, по-твоему, совсем отказаться от жратвы? - взбунтовался Бона, младший ассистент; он вел ежедневный учёт сэкономленных средств. (Обошёлся без такси - двадцать форинтов уцелели, не пришлось покупать цветы для Лонци - ещё двадцать пять, вместо обеда перехватил два бутерброда - вот тебе ещё двадцать восемь форинтов. А сейчас вроде бы наклёвывается ужин по первому классу, так что, считай, и вовсе полсотни в кармане.)
Писательница чувствовала себя усталой и опустошённой. Тени прошлого ворвались в её одиночество, нарушили привычный распорядок жизни. Хорошо бы забыться сном… Сон - лучшее спасение от всколыхнутых воспоминаний, которые, казалось, были надежно погребены под прахом лет. Всему виною этот фильм: вновь возникло лицо дочери, истаявшее струйкой дыма. На обоях в комнате проступили детские рисунки цветными мелками: домики и солнце, пузатое, с лучами, изогнутыми, как паучьи лапы; лучи эти жгли её, не давая покоя даже во сне. В глубине бельевого шкафа шевельнулась лыжная шапочка с помпоном, детский комбинезончик ожил и пустился бежать, игрушечное ведёрко загромыхало, перекрывая стук пишущей машинки; из мягкого круга света, отбрасываемого настольной лампой, ей подмигнул детский глаз, дернулось красноватое, воспалённое веко: у Эвики то и дело вскакивал ячмень на глазу. Последние ночи писательница спала тревожно, поминутно просыпалась: скоро утро, Дюла спит, как обычно, слева, пора его будить. Но только вдовья постель отзывалась скрипом на эти тревоги. Дюла, воскрешённый в сценарии, обнимал её отвыкшие от объятий плечи, его мысли были созвучны её собственным думам, неожиданно всплывали обрывки фраз, канувшие в небытие голоса. Актер, занятый в роли Дюлы, держался сутуловато, ходил раскачивающейся походкой; почему она изобразила его таким, почему упрямо цеплялась за реальный прообраз? Очки… портфель, вечно набитый битком… Нет, необходимо куда-нибудь уехать, забиться в глушь. Может быть, там удастся выплакаться, она забыла, когда плакала в последний раз.
- К чему эти официальные празднества? Мы искренне благодарны вам, дорогой Курт, - она впервые назвала режиссера по имени, - за то, что вы отнеслись к нашей работе с таким пониманием и сочувствием…
- Ну, конечно, о моём участии - ни слова! - обиженно перебил её завлит. - А между тем именно я вставил сцену с женским оркестром. Вы забыли включить её в сценарий, просто рассказали мне на словах, и, ей-богу, по-моему, это самая сильная сцена в фильме, когда оборванные, наголо стриженные женщины по команде затягивают: та-ра-ра-ра, mein Herz, was willst du noch mehr? [Сердце моё, чего ещё тебе хочется? (нем.)] За одно это, право, стоит выпить! Переведите ему, Валика, что мы полюбили его всей душой, и так далее. Кстати, в данном случае - это чистая правда.
Вали, переводчица киностудии, со вчерашнего дня стала фрау Хаберманн. В съёмочной группе её дразнили «железной девственницей», девчонка хорошенькая на редкость, кожа тонкая и нежная, кажется, прикоснись пальцем - и след останется, ноги длинные, все движения исполнены ритма, так чего ради, спрашивается, она бережёт себя? Бородатый оператор вот уже несколько месяцев подкатывается к ней, Пали, завлит, бомбардирует орхидеями по сто двадцать форинтов, чего ты ждёшь, глупая девчонка, читает она в его бархатных глазах, а он томно вздыхает и силится проникнуть ей в душу, как ребятишки насильно разжимают друг другу стиснутый кулачок, пытаясь узнать, что в нем спрятано.
Вали берет Хаберманна за руку и смеётся; душа её, как птица, готова вспорхнуть и полететь.
- Чего же ты не переводишь? - одергивает её бородатый оператор.
- А я, по-твоему, что делаю?
…Эвика сейчас была бы её ровесницей, думает писательница, глядя на Вали. В их доме жил тогда один мальчуган, вечно замурзанный и диковатый, Эвика собирала для него серебряную фольгу и белые камешки. Никак не в силах она представить себе Эвику взрослой! Волосы у неё на макушке закручивались спиралью, а по бокам распадались прядками, так что уши всегда торчали на виду, хохолок же топорщился кверху; нос моментально обгорал на солнце и лупился. Воображение отказывалось представить этот розовый, точно молодая картофелина, детский носишко на лице взрослой девушки. Движения у Эвики были размашистые, порывистые, она убегала вперёд, потом неслась обратно и снова мчалась вперёд. Плотное облачко дыма, завихрившееся и постепенно растаявшее в воздухе…
- Здорово ты в него втрескалась, Вали!
- Очень заметно?
Хаберманн, коверкая слова, пытается произнести по-венгерски: …нельзя… wie sagt man? [Как это сказать? (нем.)] …забывать, jawohl! Фильм!.. Здесь, внутри… моё сердце…
Все растроганы, каждый норовит пожать ему руку, голос Вали по-прежнему звенит, рвётся ввысь, как птица:
- Понимаете, он был в Швеции. - И глаза, и трепет ресниц, и все лицо её - как открытая книга о минувшей ночи, о томительном до боли счастье, о щемящем блаженстве… Когда они вновь и вновь повторяли друг другу извечные слова: «твой», «твоя», «с тобой», а на рассвете мужчина приподнялся на локте, чтобы видеть её, кончиками пальцев провел по лицу Вали медленно, словно навеки пытаясь запечатлеть в памяти её черты.
- Подумаешь, нашла чем удивить! Я тоже бывал в Швеции. - Бородатый оператор, пыхнув трубкой, машинально извлёк из кармана ключи от автомашины, рассеянно повертел их и засунул обратно. - Валика, ты сегодня будто с перепоя, и под глазами у тебя круги.
- Ты что, не понимаешь? Он бежал в Швецию… тогда, в период нацизма… Работал кем придётся: и чернорабочим, и лифтёром…
Они всей группой вышли во двор. На скамейке занятые в массовке легионеры, раскрашенные в кирпичный тон, дожидались съёмки. Парни слушали радио и записывали номера выигрышей в лото. Один из легионеров сдвигает на затылок каску, почесывает вихры.
- В шесть ноль-ноль у меня рандеву. Она - вдова, у неё отдельная квартира на улице Надор. Одну комнату она по контракту сдает «Интуристу». А всего я получил пятьдесят четыре письма на своё брачное объявление.
Хаберманн изучающе смотрит на небо. Выцветшее блекло-голубое полотно туго натянуто над головой, облачка мелкими хлопьями ваты плывут от горизонта к горизонту.
- И погода какая приятная… Мягкое, не резкое солнце, теплое, как материнское тело. Будто ласкают тебя теплые материнские руки.
- А знаете, хороший вы человек, - задумчиво говорит писательница. - Уверена, что в детстве вы не отрывали крыльев у бабочки и не разрезали червей пополам. Хотя ребенок, как правило, не отдает себе отчёта в собственной жестокости.
- Во мне тоже хватает всего понемножку. Но я стараюсь жить так, чтобы придать смысл нашей жизни. Поэтому иногда мне приходится проявлять суровость или скрывать свои чувства и откладывать сердце в сторонку, как ненужную вещь.
- Ближе к делу: куда и когда мы едем? - вмешивается Бона; конец недели, и ему никак не с руки было бы разменивать последнюю сотню.
- Доброта, обращенная в благодеяние, улетучивается из сердца, - продолжает Хаберманн с полуулыбкой в уголках рта. - Сохранить доброту удается лишь тем людям, которые не делают слишком много добра.
- Кончайте вы эту заумь, - машет рукой оператор. - Куда мы поедем? Палика, возьми на себя организационную часть. По мне, так не обязательно какое-нибудь шикарное заведение.
- Технический персонал, разумеется, тоже с нами, - подключается к разговору Хаберманн, - ну, и ближайшие родственники: жены и невесты, временные невесты и постоянные любовницы.
А он, оказывается, не лишен и чувства юмора, - отмечает про себя писательница. Усталость её понемногу проходит, и она с возрастающим интересом присматривается к Вали, нескрываемо, вызывающе счастливой. Счастье это назойливо бросается в глаза. А способна ли эта девочка сделать что-нибудь ради любимого? Господи, как много она брала на себя, лишь бы спасти Дюлу! Лучше всего она держалась в тех ситуациях, когда всё оборачивалось против них.
- А что, если нам смотаться на лоно природы? - спрашивает Пали. - Но куда именно, пока не скажу.
Оператор с размаху хлопает его по спине.
- Как только мы свёртываем работу, гениальные идеи из тебя так и сыплются.
Статисты-легионеры лениво поднимаются со скамьи.
- …запас не исчерпан. Назавтра у меня новая девица. Эта и фотографию свою в письме прислала. Бабёнка что надо! И кроме того, представляете, у неё собственная вязальная машина… Каждый месяц заколачивает пять тысяч чистыми. Вот только беда, что живет она на четвёртом этаже и в доме без лифта. Невеста без лифта мне не подходит.
- Пешеходные маршруты уже не для меня. - Писательница украдкой разглядывает набухшие вены на икрах. Резкие, как лиловые галочки. А когда-то в молодости они компанией исходили вдоль и поперек будайские горы, лес вставал непролазной чащей, но они продирались сквозь густые заросли бука и дуба, по щиколотку утопая в палой листве, отдающей прелью. А годы спустя они бродили по лесу вдвоём с Дюлой, но теперь им надо было вовремя поспеть домой: в пять вечера начинался комендантский час. Цветущий, живописный край, исполненный покоя и красоты, простирался вокруг, налитая буйными соками природа, источая сладостные ароматы, торжествовала над человеческим убожеством, а она вне себя кричала: это возмутительно, это несправедливо! И неистово обрывала листья, била ногой по древесным стволам, но только каблук у туфли сломался, да ногу она подвернула в щиколотке…
- Мы поедем на машинах; у нас микробус и четыре легковых. Не забудьте прихватить с собой купальник.
- Браво! - Хаберманн хлопает в ладоши. - Брависсимо! Правда, билет на самолёт у меня уже куплен, но ради такого случая… Человек живет не только работой, воскресенья тоже нужны для жизни. А у нас, к тому же, есть повод превратить пятницу в воскресенье.
Компания расположилась на поросшем травой холме, в густой тени деревьев. Зеленый травяной ковёр служит подстилкой, упругие, шелестящие ветки - изголовьем. Вали тщится перевести на немецкий переполняющие её чувства, но даже и на родном языке ей не очень удаётся их выразить. Лицо Хаберманна почти рядом, в сантиметрах от её лица. Он и не пытается придвинуться ближе. Они все равно вместе, даже если не касаются друг друга. В мечтах Вали никогда не плела венков из одуванчиков. Нет, она мечтала, будто мчится в «фиате-500». Это Курт научил её мечтать. На пальце у неё обручальное кольцо, сплетенное из травинок, а ритмичный плеск волн для неё как звуки свадебного марша. Да и не нужен он, свадебный марш! Достаточно того, что Курт касается её мизинца и спрашивает… нет, даже и спрашивать ничего не надо!
- Обед готов! Гарантирую уху и лапшу с творогом. Направление - харчевня «Четверо Серых»! - Пали отхлебывает большой глоток домашней палинки и протягивает бутылку Хаберманну. - Будь здоров, приятель! - Он звучно чмокает режиссера в щеку. - За нашу дружбу. И за то, чтобы её не омрачало ни тщеславие, ни самолюбие. Конкретно выражаясь… Конкретно выражаясь, за то, чтобы тебя не хватил удар, если он получит за наш фильм первую премию. - Мышино-серые глазки-буравчики оператора язвительно помаргивают.
- Слушай, старик, не о том речь. Я и правда его высоко ставлю.
- Всё это ты успеешь прокрутить ему позже, когда он поперхнётся ухой и из глаз у него брызнут слёзы. Надеюсь, уха будет приготовлена по всем правилам: сварена из рыбы трех видов, мелкая рыбёшка протёрта и плавает в рубиново-красном соку, похлебка проперчена на совесть, острая паприка положена целым стручком, вместе с зернышками… И вот когда у нашего любезного друга перехватит дыхание, тут как нельзя кстати будут твои излияния в любви, хоть задницу ему лижи, как у нас повелось! Переведи ему, Вали, что после обеда в интимно-семейном кругу мы завалимся кверху пузом на берегу Дуная переварить жратву, ландшафт холмисто-округлый, как женские формы, так и манит в объятия… а потом сплаваем наперегонки; вечерняя программа - венгерские народные песни у костра, жаркое на открытом огне, джазовая музыка, вопль души под гитару, а под занавес - купание при лунном свете… Ну, что ты на меня уставилась, как глазунья со сковородки?
Писательница поглубже надвинула летнюю соломенную шляпу с широкими полями. Ей доставляли истинное наслаждение и вся эта суматоха вокруг пикника, неистощимое богатство летних красок, и многообразие звуков, сливающихся в равномерный гул. Как безрадостно проходит её жизнь! Работа, повседневная суета, беготня, чашка кофе и снова работа, замкнутость, молчаливость несправедливо обиженного человека (интересно, замечают ли окружающие, что она чувствует себя обиженной?). Дома она держит под рукой жестянку с сухим печеньем и поминутно грызёт его, чтобы поменьше курить, а почему бы, собственно, ей не курить сколько хочется, чего ради беречь себя?! Никто и никогда не спросит у неё, хорошо ли она спала. Да ведь и жаловаться имеет смысл лишь тому человеку, в ком болью отзывается твоя боль. А у неё близких людей нет. Мимолётные интрижки - это не для неё. Иное дело, если бы встретить такого мужчину, рядом с которым её жизнь обрела бы смысл, мужчину, который мог бы служить ей опорой, в то же время не стесняя её свободы. Она пристально разглядывала Хаберманна. Кожа на лбу у него и у глаз тронута мелкой сетью морщинок. Пожалуй, всё дело в них, в этих морщинках: такой человек может понять её одиночество, следуя за нею от фразы к фразе, постичь её замысел, воплотить то, что она долгие годы несла в себе, копила, и тяжкий груз этот нестерпимо теснил грудь, пульсирующей болью отдавался в затылке. Этот человек словно переложил на себя все её страдания. Сколько раз заставлял он Маглоди репетировать сцену, когда героиня фильма сошла с поезда и застыла на перроне, сжавшись в комочек, словно обронённый кем-то узел: «Да не плачьте же, чёрт вас возьми! Вы давно выплакали все слёзы».
Вот и я тоже выплакала все свои слёзы. Если бы удалось выплакаться, то, пожалуй, снова можно было бы обрести способность радоваться, воспринимать мелкие человеческие радости, - вот как сейчас, например… собственно, это ещё не радость, лишь предчувствие радости. Хаберманн, к сожалению, слишком молод для меня, но вместе работать - это уже немало; у общей работы всегда есть общий ритм, связующая сила… Её охватило приятное возбуждение. Иметь близкого человека, о ком заботишься. Прожить полной жизнью десять лет. Или хотя бы пять. Даже два года меня бы устроили.
Обед затянулся допоздна. Ребята из группы технического обслуживания привезли с собой хорошего вина из винодельческого кооператива. Бона ломал голову, как бы под шумок прихватить домой бидончик: у отца скоро день рождения.
Хаберманн с неистощимой нежностью поглаживал колени Валики и рассуждал о том, что проявления гуманизма зачастую вырождаются в пустой формализм, он же со своей стороны… Пали с приторно-преувеличенным усердием поддакивал, провожая взглядом каждое движение пальцев Хаберманна, блаженно замиравших у округлого изгиба; при этом режиссер повышал голос, словно желая заглушить беспокойный шорох Валики, волнением отвечавшей на его ласки. Солнечные лучи зигзагами пробивались сквозь кроны деревьев, и под их прикосновением сворачивались, никли цветки ипомеи, оплетающей беседку.
- Есть у меня одна заветная идея… но я до сих пор никак не решалась к ней подступиться. - Писательница сорвала цветок ипомеи, машинально растерла его на ладони. - Хотя она засела в глубине души и не даёт мне покоя.
- Я помогу вам вытащить её на поверхность! До тех пор стану мучить вас… А, что я слышу! Кто это так прекрасно играет на флейте?
- Да ещё после плотного закусона! - откликнулся оператор. - Самое время сматываться отсюда. Пали наверняка облюбовал для нас какой-нибудь тенистый уголок. Наших гостей-иностранцев мы всегда стараемся попотчевать шелестом дубравы.
Компания расположилась на берегу Дуная, смех упругим мячом летал среди прибрежных деревьев, весёлые голоса подзадоривали, перебивали друг друга, шелестела сбрасываемая одежда; Вали уже успела переодеться в бикини, тело её было покрыто таким ровным загаром, как будто её подрумянивали на вертеле, груди, словно чуткие радары, сами собой поворачивались в сторону Хаберманна, а тот настойчиво уговаривал писательницу не откладывать в долгий ящик, пусть она немедля принимается за работу, приезжает в Берлин, а там они сообща… Они станут спорить ночи напролет, ночью у него так ясно работает голова; будь его воля, он бы прямо сию минуту отправил её домой, писать, отделывать сценарий.
Писательница рассмеялась - коротко, навскрик, будто человек, нежданно-негаданно обнаруживший давно утерянную вещь. Он, он сам высказал вслух то, о чём она втайне мечтала! Через три недели у неё будет паспорт в кармане. Номер в гостинице не потребуется, хватит с неё и небольшой квартирки с клетушкой-кухней, можно будет стряпать самой и угощать его новыми, необычными блюдами. Общая работа - это таинственная, неразгаданная связь людей. Духовный союз двух человек, которые с одинаковой страстью вступаются за униженных, с одинаково пытливым интересом присматриваются к пробуждающейся улице, к обнявшейся влюбленной парочке, неожиданно вынырнувшей из зыбкого предрассветного сумрака, к стрельчатым кронам акаций, стиснутых асфальтом, ко множеству ничего не значащих подробностей и ко множеству деталей, исполненных значимости.
- Это не к спеху, - сказала она, напрашиваясь на уговоры. - Я постараюсь так распределить своё время, чтобы подключиться сразу же…
- Какой бы ни был неотделанный набросок, присылайте, а ещё лучше, привезите сами. - Хаберманн сдвинул солнечные очки на лоб, его настойчивый взгляд упорно сверлил её руки, проникал через поры под кожу.
- Насколько я понимаю, вы снова вернётесь к нам. - Нежданная радость сделала писательницу великодушной. - Вали действительно очаровательное создание! - И она принялась перечислять все достоинства девушки. Затем, укрывшись за деревом, переоделась в купальник и, отколупывая смолу, капельками пота проступавшую на стволе, оттягивала момент, когда придётся очутиться среди молодых обнажённых тел; она втянет живот и постарается взять язвительно-залихватский тон, чтобы заставить других забыть о её возрасте, об одиноких днях, потому что это не правда, будто она перестаёт быть одинокой, как только начинает писать! Ей так необходим человек, который обронит иногда: я - здесь, рядом… Хаберманн не произносит этих слов и всё же дает ей почувствовать, что он с нею.
Вали натирала маслом для загара бедра и плечи.
- Мы поедем в Швецию.
- Jawohl!
- «Тепло материнского тела»! - насмешливо фыркнул оператор. - По-моему, это пекло адское. В такую духотищу, да с набитым брюхом, я - пас, отказываюсь плавать, утрёпывать за бабами, и никакие рулады на флейте меня тоже не прельщают. А кстати, за каким это чёртом вы тащитесь в Швецию?
- Курт покажет мне все места, где побывал в войну. Мы остановимся в той самой гостинице, где он служил лифтёром. В маленьком ресторанчике будем есть… как называется мясо, запеченное в рокфоре?
- А-а, вот и Маргит! Пристраивайся ко мне под бочок! - махнул рукой оператор. - Местечко в тени - экстра-класс! Кстати, выглядишь ты прелестно! Сколько тебе, пятьдесят три? Больше пятидесяти двух никак не дашь!
Писательница расстелила на траве купальный халат. Изуродованные ступни - пальцы на ногах были отморожены во время бесконечных выстаиваний на аппельплацу - она прикрыла полой халата.
- Не мастер я писать сценарии, - говорит она Хаберманну. Она нарочно заставляет упрашивать себя. Ей хочется почувствовать, что для него это действительно важно.
- Самую суть я сумею уловить, а доработаем мы на пару. - Положив голову на колени Вали, он пробурчал нечто невнятное - сплошной набор шипящих.
- По мере того как продвигается работа, нередко меняется и сам замысел.
- Вот-вот! Потому и важно, чтоб вы приехали, тогда вместе мы…
- Хорошо, я согласна, - поспешно перебила она Хаберманна с такой интонацией, которой прежде за собой не замечала.
Большой красный мяч прокатился между ними, несколько раз подпрыгнул на ходу и шлепнулся в воду, разорвав серебристо-ртутную гладь реки.
- А ну, за ним - кто первый! - Хаберманн вскочил и, высоко вскинув руки, помчался вдоль берега; под мышкой у него синело пятно. На первый взгляд могло показаться, будто то был след от сильного ушиба, но тотчас же глаз улавливал и контуры - частые точки, выжженные иглою; у писательницы вырвался протяжный, жалобный стон, как у собаки, которой наступили на лапу.
Лучезарная улыбка, не сходившая с лица Вали и слепившая, точно незатененная электрическая лампочка, сменилась озабоченной гримасой.
- Что случилось? Вам плохо? - Резиновой купальной шапочкой она принялась обмахивать писательнице лицо. - Пожалуйста, сделайте глубокий вдох.
- А ты что, не видела? - недобро ухмыльнулся оператор. - Уж кому-кому, а тебе-то давно следовало заметить.
- Что… что мне следовало…
- Или вы крутили любовь только при потушенных фарах?
- Заткнись! - Завлит долго возится с зажигалкой, спичкой ковыряет фитиль. - Возможен и такой вариант… гм… возможно, что в том сумасшедшем вихре… закрутило и его… не забудь, в те годы он был совсем зелёный юнец… гм… А нам остается только проглотить пилюлю. Другого выхода я не вижу.
Взгляд Вали напряженно упирается в спину Хаберманну, девушка следит, как он с маху бросается в воду и плавно выныривает на поверхность.
- Что случилось? - Девушка машинально продолжает обмахивать повлажневший лоб писательницы.
- Так, мелочи жизни… - Губы оператора растянуты в ниточку, и каждое слово он роняет, будто стряхивает крошки. - У этого типа татуировка под мышкой. Он был эсэсовцем.
- Неправда!
- Правда, - кивает писательница. Она откидывает в сторону купальный халат, и её искривленные, отмороженные пальцы подтверждают: это правда.
На лице Пали, не привыкшего к сложным переживаниям, всеприемлющая улыбка сбивается в растерянную ухмылку.
- А ведь казался таким своим парнем… ну, своим в доску. Наверное… - Оборвав фразу, он встаёт, отряхивает приставшие травинки, цветочную пыльцу. - Чтоб тебе провалиться ко всем чертям!
- Где будем разводить костёр? - подбегает к ним патлатый молодой человек.
- И без костра перебьешься, - оператор натягивает носки.
- Мы натаскаем хворосту. Кирпичами мы запаслись.
- Не нам этим заниматься, - говорит писательница, неотрывно следуя за взглядом Валики: зрачки её мечутся справа налево, слева направо, в них смятение перепуганного насекомого, трепет наколотого на булавку мотылька. - Завтра он улетает. - Хорошая тема, так и просится на бумагу… Бесплодные мечты стареющей климактерички. Эти судорожные попытки ухватиться за несуществующую соломинку. Женщина было уже покорилась старости, как вдруг однажды… У писательницы слегка перехватывает горло, когда она представляет себе припорошённые сединою волосы и поблекшую за зиму вялую кожу, желтизна которой особенно заметна при ярком летнем солнце, и эта самоуверенность, за которою скрывается робость её героини. Она более хрупкая, более ранимая, чем сама Маргит.
Эту черту для своей будущей героини она позаимствует у Валики. Равно как и глаза янтарного цвета; они широко, изумлённо распахиваются, стоит только мужчине… Да, кстати, а каков он, этот мужчина? Пожалуй, замкнутый и немногословный, он не любит привлекать к себе внимание. И конечно, он не похож на Хаберманна… Своей грубоватой честностью и требовательностью… требовательнее всего он относится к самому себе… Фантазия её заработала, выстраивая деталь за деталью, теперь в бескровных муках она сотворит другого Хаберманна и другую Маргит, которая будет все же сродни ей самой.
Хаберманн шутливо целится в них мячом, вот он выходит из воды, садится по-турецки.
- Чудеснейший день! Поплыли на тот берег! Кто со мною?
Руки у Вали бессильно повисли меж колен, лицо серое, как закваска, она поднимает глаза на Хаберманна:
- Ты вовсе и не был в Швеции!
- Но, дорогая… о да, конечно, нужен документ… Ведь мы живём в эпоху документов. - Он смеётся. - Неужели никогда не кончится эта власть бумаг над нами?
Безмолвие, как в аквариуме. Тяжелая, удушливая тишина.
- Пфуй, до чего ленивая компания! Auf! Встать, Пали! Фрау Маргит!
- Мы едем домой…
- Как, уже домой? Но ведь…
- Дождь собирается! - объявляет оператор.
- Пора сматывать удочки, - хрипло добавляет Пали. - Нюхом чую, быть грозе.
Ни единое облачко, даже самое крохотное, не омрачает бескрайней синевы неба.
Хаберманн хочет возразить, но что-то удерживает его. Он молча ждет, пока все соберутся к отъезду.
Сборы проходят в полнейшем безмолвии, и тем назойливее, оглушительнее становится треск кузнечиков.
Перевод Т. Воронкиной.

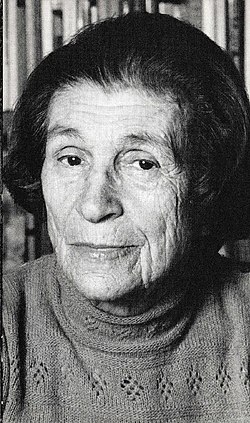
Предыдущий пост о писательнице: https://fem-books.livejournal.com/1938859.html . Сама Палотаи избежала заключения, тогда как её младшая сестра Эржи и зять пережили концентрационный лагерь. В эти дни, оказывается, Венгрия отмечает страшную годовщину прибытия первого транспорта из Венгрии в Аушвиц. У уважаемой френдессы фотографии в посте выложены.