Рассказ Виктора Астафьева «Ловля пескарей в Грузии», на который обиделись Эйдельман и грузины
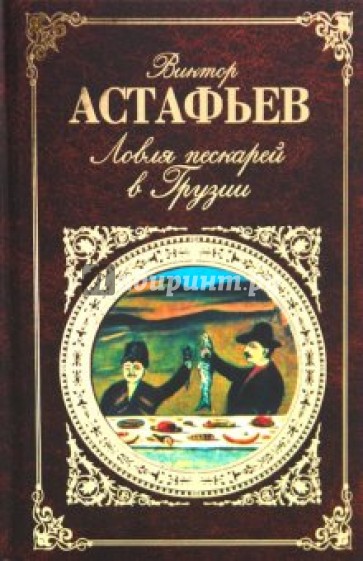
Наткнулась на чьи-то высказывания про рассказ Виктора Астафьева «Ловля пескарей в Грузии». Я еще с Перестройки помню, что из-за него грузины жутко обиделись на русского писателя . Тогда грузинская делегация даже ушла из-за этого с съезда писателей (Черт возьми! Съезды у писателей какие-то были, и так это было важно!).
Рассказ я тогда не прочитала, т.к. он печатался в «Современнике», которого я сторонилась. Много лет с тех пор прошло, Грузия отделилась от России, войнушка с ними была, Астафьев умер, его теперь никто не читает, а о «Ловле пескарей» все же не забывают.
Как-то я нашла рассказ в Интернете, прочла, удивилась, что из-за него было столько шума.
Собственно, это не рассказ, а путевой очерк - жанр в 70-80-х довольно популярный. Одни люди, в том числе писатели, путешествовали, другие читали об их путешествиях. Никто, конечно, не мешал путешествовать по стране, но предпочитали или пляжный отдых, или санатории, или туристические походы или уж дачу-деревню. А вот чтобы взять, да и объехать всю Грузии или Армению, как-то в голову не приходило. В городах типа Тбилиси или Еревана бывали больше во время командировок. И писатели туда ездили в командировки, но в творческие, а потом писали путевые очерки. В очерках было положено восхищаться природой советской республики, гостеприимством и прочими талантами ее народа, их богатой историей и пр. Например, так были написаны очерки Андрея Битова об Армении. Прочтя их, я представляла себе Армению как сказочную страну, а армян как лучших из людей.
Думается, что жители республик привыкли именно к такому, а особенно, грузины, которые со времен Сталина были самой захваленной нацией в СССР. А тут вдруг Астафьев со своими пескарями.
Судя по всему, Астафьев был человеком желчным, если не сказать злобным. Такой очерк мог бы написать Собакевич, если бы обладал писательским талантом.
Писатель недоволен решительно всем. Ему и его жене дают путевки в дома творчества и в санатории, но все там не так.
«Было время, когда я ездил с женою и без нее в писательские дома творчества и всякий раз, как бы нечаянно, попадал в худшую комнату, на худшее, проходное место в столовой. Все вроде бы делалось нечаянно, но так, чтобы я себя чувствовал неполноценным, второстепенным человеком, тогда как плешивый одесский мыслитель, боксер, любимец женщин, друг всех талантливых мужчин, в любом доме, но в особенности в модном, был нештатным распорядителем, законодателем морали, громко, непрекословно внушал всем, что сочиненное им, снятое в кино, поставленное на театре - он подчеркнуто это выделял: «на театре», а не в театре! - создания ума недюжинного, таланта исключительного, и, если перепивал или входил в раж, хвастливо называл себя гением…
…«В последний мой приезд в творческий дом располневшая на казенных харчах неряшливая поэтесса, в треснувших на бедрах джинсах, навесила, почти погрузила кобылий зад в мою тарелку с жидкими ржавыми щами, разговаривая про Шопенгауэра, Джойса и Кафку с известным кинокритиком, панибратски называя его Колей…».
Пыталась найти прототипов этих персонажей, но не нашла. Но ведь это какие-то реальные люди, которые не сделали автору ничего плохого. Зачем он их так?
Наконец, писатель поехал в Грузию.
«На солнечном Кавказе нас с женою так ловко и в такую дыру законопатили, что солнца, как в зимнем Заполярье, совсем не видно было, разве что на закате - чтоб мы его вовсе не забыли; вожделенное море располагалось под другими окнами, возле других корпусов, где жили родственники писателей, какие-то пьющие кавказцы, начальник похоронного бюро Союза писателей, разряженный под Хемингуэя, и другие важные деятели творческих организаций».
Наверное, для сибиряка, соскучившегося по солнцу, это было неприятно, но все равно - не слишком ли драматично он все воспринимал?
Неожиданно в дом творчества приезжает бывший соученик по Высшим литературным курсам, сван Отар, который хочет показать писателю настоящую Грузию.
Отношение к этому человеку у автора сложное. Во время учебы он произвел на него хорошее отношение, потому что был всегда опрятен, в любую погоду носил галстук, был вежлив, хотя один раз сорвался, «показав взрывную силу духа и мощь характера сына кавказских гор». У них на курсе был один армянин, выросший в Греции, который на семинарах по философии никому не давал рта раскрыть, считая себя, видимо, наследником древнегреческих философов. Отар поставил его на место.
Но когда Отар стал национальным грузинским писателем, он разонравился автору: «Посмотрел я его книги, изданные в Москве, и меня поразило, что из сокурсников Отара и верных товарищей, переводивших его сложную прозу на русский язык, остался лишь один я, остальные все заменены грузинскими фамилиями - так выгодней. Да и я остался в переводчиках лишь потому, что попал в «обойму»».
Вот и сейчас Отар вел себя как-то развязно. Он поругался с директором дома творчества, одет был кое-как, без галстука, спросил у Астафьева, есть ли у него вино, а когда тот достал бутылку «Псоу», пренебрежительно сказал, что это - ссаки для туристов, и велел сопровождающему его человеку принести в номер две огромные корзины с разнообразной снедью. Потом они отправились на машине Отара смотреть Грузию.
Пыталась узнать, о ком из грузинских писателей писал Астафьев. Может быть, об Отаре Чхеидзе? Или об Отаре Челидзе? Оба подходят по возрасту, но ни один из них не сван.
Астафьеву поведение Отара не сильно нравилось. Он ехал и рассуждал про себя:
«Было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барственности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам. вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничижительно зовут «копеечная душа», везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, везде он швыряет деньги, но дома учитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет от роду, всунутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек».
Вот, собственно, этот внутренний монолог и вызывал скандал.
Далее едут они по Грузии, писатель все примечает: земля богатая, дома у людей большие, а окна в них меньше, чем у них на севере, но дороги плохие. В целом же люди здесь гораздо зажиточнее, чем в Сибири.
«Ближе к Кутаиси, в пыли, поднятой до неба, зашевелился сплошной поток машин. Меж ними, разрывая живую, грохотом оглушающую, чудовищную гусеницу, еще гуще, выше подняв тучу пыли, хрипели и рвались куда-то дикие мотоциклы с дикими молодцами за рулем, одетые в диковинные одежды из кожзаменителей, в огромные краги, в очки, изготовленные а-ля «мафиози», все чаще и чаще оглашали воздух древней страны сирены машин, расписанных или обклеенных иностранными этикетками и изречениями, с обязательной обезьянкой на резинке перед ветровым стеклом, с предостерегающе ерзающей по стеклу, вроде бы у дитя отрубленной рукой, с пестрым футбольным мячом, катающимся у заднего стекла, как бы по нечаянной шалости туда угодившим».
Астафьев вспомнил анекдот про то, как гурийцев, считающихся хитрецами, заманивали в колхоз, рассказывая, как там будет хорошо. А они выслушали и сказали со слезами: «Колхоз - такой хороший, а грузины - такие плохие: мы друг другу не подходим».«Глядя на поток машин, на этот обезьяний парад пресыщенного богатствами младого поколения гурийского племени, я тоже возопил:
- Дорогой Отар! Кутаиси - город такой богатый и такой роскошный, а мы, русские гости, такие бедные и неловкие, что друг другу не подходим».
Астафьев считал, что и без Отара знал Грузию.
«Был и в Зугдиди, и в глубине Грузии, кое-что повидал и запомнил. Более других запала в память встреча с корреспондентом сатирического московского журнала, не умеющим писать по-русски и нанимающим разных «бездомных» русских горемык, владеющих крепким пером, но загнанных на юг бедами и болезнями. Труженик обличительной прессы давал литрабу и то, и другое. Не свое, конечно, государственное, но получалось, как свое. Когда товарищ мой, много лет мыкавшийся по Северу, крепко поработавший на южного хозяина, попал в центральную газету, сатирический туз приглашал его к себе уже в качестве почетного гостя. Был и я приглашен в дом важной персоны «откушать в качестве поэта» вместе с какими-то иностранцами, будто бы французского и польского происхождения - французы те смахивали на уроженцев Бессарабии, поляки - родом из-под Рязани, - однако хозяин рассыпался перед ними мелким бесом, и два угрюмых джигита, преступники, видать, вытащенные могучим пером и не менее могучими связями из тюрьмы, волокли и волокли на стол поросят, дочерна испеченных па огне, с заткнутыми луком задами и торчащим из-под невинного детского пятачка чесноком, похожим на широкостеблую курскую осоку. Тут же состоялся быстрый и тихий торг: хозяин приобрел у «иностранцев» какие-то импортные тряпки и вместе с ними удовлетворенно закурил черную, испаренным банным веником пахнущую сигару, балакая с иностранцами о том о сем на каком-то языке.
- Это он по-какому? - спросил я у товарища.
- Ему кажется - на английском.
У хозяина была дочь десяти лет от роду. Товарищ мой имел красивого, хорошо воспитанного сына того же возраста. И хозяин, казалось мне, с юмором - в сатирическом же журнале работает - говорил, что он открыл в кассе счет на имя дочки и каждый месяц кладет деньги с таким расчетом, чтобы к ее совершеннолетию был миллион, кроме того, он сулился купить молодоженам «Мерседес» и отдать во владение дом в Гали.
- Моя дочь, мое богатство, плус красота, ум и скромность твоего сына - какие будут у нас внуки!..».
Все же с Отаром он посетил древний монастырь в Гелави, который когда-то едва не разрушили монголы. Астафьев вспомнил «Витязя в тигровой шкуре» и хороший обычай, бывший в 19 веке, когда молодым на свадьбу дарили эту книгу.
Потом они были в гостях у богатого грузина. Принимал он их очень хорошо, но Астафьеву не понравилось, что женщины не сидят за столом, а только обслуживают мужчин и доедают то, что они не доели.
«Потом мы поехали во владение хозяина и оказались в районном селении Гали, почти сплошь занятом обитателями Черноморского побережья, выкачивающими из спрятанных за горами садов и усадеб капиталы.
- Я имею всего шестьдесят тысяч дохода в год, - жаловался хозяин, - мои соседи - двести, пятьсот. Это потому что мои мама и папа старые. Я жалею их…
Отправляясь спать в роскошный двухэтажный дом, в кровать, застеленную голландским бельем, я зашел во флигелек - пожелать спокойной ночи старикам. Одетые в хламиды, среди сырых стен, прелых углов, на топчанах, сделанных из сухих ветвей фруктовых деревьев, утонув в пыльном, словно бы сгорелом хламье, на свалявшихся овечьих шкурах лежали старики и с бесконечной усталостью ответили на пожелание спокойной ночи, что хотели бы уснуть и не проснуться, что ежевечерне, ежечасно молят они Бога, чтоб он успокоил, прибрал их простуженные, изработанные кости, прикрыл землею…
Я уже согрелся, засыпал в волглой постели - в Гали сыро, камни, строения, заборы покрыты плесенью, - как снова услышал приглушенный, злой голос хозяина.
- Что это он?
- Ругает стариков за то, что не погасили свет в туалете. Мы оставили невыключенную лампочку…».
Шестьдесят тысяч в год, двести тысяч, пятьсот тысяч…Тогда зарплата старшего научного сотрудника без степени после 20 лет стажа была 180-200 рублей; начинающий инженер получал 130 рублей. Мы даже не представляли, что такие деньги в принципе возможны.
Жадный хозяин, эксплуатирующий своих родителей, взбесил автора: «Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? Завести бы тебя вместе с тигром, с мечом и кинжалами, но лучше с плетью в Гали или на российский базар, чтобы согнал, смел бы оттуда модно одетых, единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и покупателей; навязывающих втридорога не выращенные ими фрукты, цветы, не куривших вино, а скупивших все это по дешевке у селян; если им об этом скажут, отошьют их, плюнут в глаза, они, утираясь, вопят: „Ты пыл бэдный! Пудэш бэдный! Я пыл богатый! Пуду богатый!“ Они не читали книжку про тебя, Витязь. Иные и не слышали о ней. Дело дошло до того, что любого торгаша нерусского, тем паче кавказского вида по России презрительно клянут и кличут „грузином“…».
Но, видимо, писателю понадобилось для уравновешивания представить и положительных грузин - о них будет дальше.
Теперь про пескарей - рассказ-то про рыбную ловлю. По дороге к хорошему грузину проезжали мимо водохранилища, которое Астафьев назвал землегноилищем, т.к. он принципиально против водохранилищ (уходят под воду деревни, церкви). Но писатель сообразил, что в озере можно легко добыть много рыбы и начал рыбную ловлю. Оказывается, у него при себе были лески, крючки и поплавок. Все вместе стали ловить пескарей, вошли в азарт, а рыбу клали в кукан. Но ее съели раки. Тогда они стали ловить раков и наловили целый мешок.
Только дождь разогнал рыбаков.
Видимо, этот рассказ должен был показать, что есть нечто, объединяющее мужчин всех национальностей, например, страсть к охоте, рыбалке.
Наконец, они прибыли к хорошему грузину, дяде Васе. Он был счастлив, что у него впервые за 15 лет появились гости. Уж он и кормил, и поил, и песни пел, и женщины за столом сидели, и песни переводили. Дядя Вася и его зять были шахтерами. Хотя и тут не обошлось без неудобной детали: когда зять служил в армии где-то в Сибири, он любил посещать женское общежитие, о чем сохранил самые приятные воспоминания. Да и сам дядя Вася - несколько слабоумный уже старичок.
«Тогда и я обнял дядю Васю и громко, чтобы женщины
тоже слышали, произнес:
- Только у вас да еще в Гелати я почувствовал, что есть настоящая Грузия и грузины! - И еще раз, древним русским поклоном - рука до земли - поблагодарил гостеприимных хозяев, чем окончательно смутил женщин, а дядю Васю снова вбил в слезу.
- Если тебя... если тебя... - заливаясь слезами, молвил он, - торогой мой русский гость, кто обидит у нас, Грузия, того обидит Бог...».
Трудно все же понять, что так взбесило грузин и всех остальных. Астафьев старался соблюсти пропорцию: плохие грузины - торговцы, хорошие - шахтеры. Древняя героическая история и испорченные современные нравы.
Тем не менее, Астафьева многие осуждали, а Натан Эйдельман
- историк и писатель, пушкинист, специалист по творчеству А. И. Герцена, автор многих книг о декабристах - даже написал Астафьеву личное письмо.
http://lib.ru/PROZA/ASTAFIEW/p_letters.txt
В нем он объяснял, что критиковать народ может только представитель этого народа. Русские могут осуждать только русских, а писать о дурных сторонах грузин могут только грузины. ««Закон, завещанный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего, до всех сторонних объяснений, винить себя, брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри…
Что касается всех личных, общественных, народных несчастий, то чем страшнее и сильнее они, тем в большей степени их первоисточники находятся внутри, а не снаружи…
…С грустью приходится констатировать, что в наши дни меняется понятие народного писателя; в прошлом - это прежде всего выразитель высоких идей, стремлений, ведущий народ за собою; ныне это может быть и глашатай народной злобы, предрассудков, не поднимающий людей, а опускающийся вместе с ними».
На мой взгляд, Эйдельман несколько перегнул палку: так, он считал, что на Астафьева должны были обидеться не только грузины, но и буряты с казахами за то, что он нетолерантно описал, как грузинский монастырь пострадал от нашествия монголов в 13 веке. Конкретно, ему не понравились вот эти строки про осквернении храма: "загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную, кровавую конину, обдирая лошадей
здесь же, в храме, и, пьяные от кровавого разгула, они посваливались
раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо".
Астафьев ответил Эйдельману довольно грубо: «У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам "эсперанто", "тонко" названном "литературным языком". В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, - собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже "приберем к рукам" и, о ужас! О кошмар! сами прокомментируем "Дневники" Достоевского».
Эйдельман написал еще одно письмо, а потом пустил переписку в народ - она ходила в самиздате.
Астафьев позднее в интервью сказал следующее: «...Он человек очень подлый, конечно. И все его письмо очень подлое, хотя сверху благолепное такое... Я подумал, можно, значит, с ним вступить в какую-то полемику, но, во-первых, мне не хотелось, во-вторых, много чести. И тогда я по-детдомовски, по-нашему так, по-деревенски… Что там есть, как, но я ему дал просто между глаз. Если бы был он рядом, я бы ему кулаком дал, вот. А так он далеко, я ему письмом дал, потому что, ну, они же ведь думают, что это уж они, так сказать, пупы мира, вот если, значит, о нас говорят что-то, значит, это ничего, разрешается. А у нас ведь нету таких резервов. Для них весь мир вроде, так сказать, они, где плохо - переедут где лучше. Нам некуда, нам все время, где плохо, там и живем, так сказать».
Трудно, наверное, было найти двух таких разных людей, как Виктор Астафьев (1924-2001) и Эйдельман (1930-1989).
Астафьев родился в сибирской деревне под Красноярском. Родители часто ссорились. Потом отца на 5 лет отправили перевоспитываться на строительстве Беломора-Балтийского канала. Мать умерла, а ребенка взяла к себе бабушка. Вернувшийся отец женился во второй раз. Мальчик был не нужен в новой семье, и его отправили в детский дом. В 1941 году Астафьев вышел из детского дома. К этому моменту он закончил только шесть классов - его несколько раз оставляли на второй год из-за проблем с арифметикой. На фронт пошел в 1942 году добровольцем. После войны работал в разных местах. В 1950 году увлекся писательством, стал посещать литературный кружок; в 1951 напечатал первый рассказ. Работал журналистом. В 1958 году стал членом СП, потом окончил высшие литературные курсы. Постепенно стал считаться классиком.
Астафьев умер в 2001 году. Успел послужить Ельцину, поддержать его в 1993 году, проклясть советскую власть. Путин приезжал на его могилу, беседовал с вдовой.
Астафьев был женат один раз, но имел 2-х дочерей на стороне от разных женщин. Самая младшая дочь появилась на свет от деревенской девушки, которой было 24 года, в 1984 году. Наличие внебрачных детей при жизни писателя скрывалось.
Умер он от инсульта.
Эйдельман рос в полной семье, в Москве. Его отец был журналистом, театроведом, а вдобавок еще и сионистом. Правда, отца в 1950 году за сионизм посадили, а вышел он на свободу в 1954 году, но Эйдельман в то время уже учился на истфаке МГУ. Он защитил кандидатскую диссертацию. Какое-то время у него были неприятности из-за отца, потом сам вляпался в историю с подпольным кружком и был исключен из комсомола. Но все обошлось. Эйдельман писал не только научные труды, но и научно-популярные. На этой ниве он и снискал известность. Его книги о революционерах 19 века хорошо издавались, сам он был отличным оратором, и на его лекции народ ломился.
Любил застолье, футбол. Был женат дважды. Вторая жена - его литературный секретарь - состояла с ним в отношениях 14 лет до того, как он на ней женился. Это случилось за несколько лет до его смерти. Отношения с обеими женщинами были запутанными и сложными.
Натан Яковлевич успел умереть до распада СССР, в 1989 году. Он умер внезапно, от инфаркта легкого.
На какую фотографию Астафьева ни посмотришь - везде он мрачный и смотрит исподлобья, а Эйдельман всегда запечатлен с широкой улыбкой.
Почти иллюстрация к рассказу Салтыкова-Щедрина "Мальчик в штанах и мальчик без штанов".
Кто был прав в споре Астафьева и Эйдельмана? Наверное, все же Астафьев. Но сегодня это уже далекая история.
Но в главном они были едины: оба, как могли, приближали конец СССР. Эйдельман считал, что необходима революция сверху, переход к демократии и рынку, а Астафьев сожалел об убийстве царя и засилье в отечественной культуре представителей нерусских национальностей, в том числе, евреев.
Теперь евреев в стране почти нет, грузинских писателей больше не переводят, рынка - завались, а вот лучше почему-то не стало.

В верхнее тематическое оглавление

Тематическое оглавление (Идеологические размышлизмы)