Поэзия. Юрий Белаш. Окопная правда Победы
Предыдущий поэт
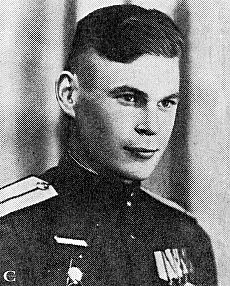
Юрий Семёнович Белаш. 1920 - 1988. Поэт-фронтовик с неординарной судьбой-биографией, о которой он сам рассказывает здесь, там и стихов много.
Мне довелось с ним пообщаться, когда я работал в "Неделе", в отделе литературы и искусства. Нам его порекомендовал Вячеслав Кондратьев, они дружили. Когда Белаш пришел, мрачный и настороженный, хотя его пригласили, чтобы он сам дал нам стихотворения, которые хочет опубликовать (у него тогда практически не было публикаций), он первым делом спросил нас, то есть редактора отдела и меня: "Чтобы разговаривать с человеком, мне надо знать, какая у него зарплата. Так сколько вы получаете?". Мы не стали скрывать наши весьма скромные оклады. Но меня, честно говоря, удивило, почему пожилого фронтовика - а это было, увы, за два года его смерти, в 1986 году - интересуют такие "суетные" нюансы. Типа поэт должен думать "о высоком"...
Однако поэзия Юрия Белаша - тоже отнюдь не "о высоком". Это самая настоящая, чистейшая окопная правда, со всеми кровавыми и неаппетитными подробностями. Так ведь война - дело грязное и совсем не романтическое.
Считайте, что я предупредил.
Пехоту обучали воевать.
Пехоту обучали убивать.
Огнем. Из трехлинейки, на бегу,
Все пять патронов - по знакомой цели,
По лютому, заклятому врагу
В серо-зеленой, под ремень, шинели.
Гранатою. Немного задержав,
К броску уже готовую гранату,
Чтоб, близко у ноги врага упав,
Сработал медно-желтый детонатор.
Штыком. Одним движением руки.
Неглубоко, на полштыка, не дале.
А то, бывали случаи, штыки
В костях, как в древесине, застревали.
Прикладом. Размахнувшись от плеча,
Затыльником в лицо или ключицу.
И бей наверняка, не горячась,
Промажешь - за тебя не поручиться.
Саперною лопаткою. Под каску.
Не в каску - чуть пониже, по виску,
Чтоб кожаная лопнула завязка
И каска покатилась по песку.
Армейскими ботинками. В колено.
А скрючится от боли - по лицу.
В крови чтобы горячей и соленой
Навеки захлебнуться подлецу.
И, наконец - лишь голыми руками.
Подсечкою на землю положи,
И, скрежеща от ярости зубами,
Вот этими руками задуши!
С врагом необходимо воевать.
Врага необходимо убивать.
В патронник загоню патрон.
Затвор поставлю на предохранитель.
Готово всё для похорон -
давайте, что ли, подходите.
Берите.
Но запомните одно:
ох, дорого вам это обойдётся! -
коль скоро мне греметь на дно,
то вам меня сопровождать придётся.
Я жизнь свою задаром не отдам.
Умоюсь я - и вас умою кровью.
Мы смерть разделим пополам,
и вашу долю - вам я приготовлю.
И то, что это не болтовня,
вы сами в этом скоро убедитесь,
и прежде чем приняться за меня -
вы за себя сначала помолитесь.
Пускай глаза мне выклюют вороны
и белый свет я больше не увижу, -
до самого последнего патрона
не принимаю вас
и ненавижу.
Я кончил.
Ровен сердца стук.
И отжимаю я предохранитель.
Ну, что вы заскучали вдруг?
Давайте, суки, подходите!..
✱ ✱ ✱
Очистка от противника траншей -
гранатами, штыками, финками,
и топчем, топчем трупы егерей
армейскими тяжёлыми ботинками.
Ответят за войну и за разбой!
Мы их живыми, гадов, не отпустим.
Мы их потом, когда окончим бой,
как брёвна, выбросим за бруствер.
Под селом Милеевом - порядок!
П. А. Иванову и Захарову, вдвоём державшим растянутую оборону в августе 1943-го под селом Милеевом Брянской области
- Хрен фашисты нас отсюда стронут!
Ни черта им, жабам, не заметно…
Два сержанта держат оборону
На участке в двести метров.
Замаскировали вдоль траншеи
ППШа, гранаты и винтовки,
а на флангах вытянули шеи
станкачи - с патронами у глотки.
- Днём мы отдыхаем кверху носом.
Я - сначала, а потом - Захаров.
Ну а ночью - ходим по окопам
и даём скотине этой жару…
А вчера я сползал к ним в разведку:
гансы в блиндаже хлебали щи;
я не растерялся - случай редкий! -
пулемёт с коробками стащил.
Ох и было, мать честная, звону!
С полчаса плевали против ветра,
Только хрен подавишь оборону,
если два штыка на двести метров.
Иванов лукаво щурит глаз.
Финский нож болтается у пояса.
- Словом, тут порядочек у нас.
Можете, сосед, не беспокоиться.
Он
Он на спине лежал, раскинув руки,
в примятой ржи, у самого села, --
и струйка крови, чёрная, как уголь,
сквозь губы неподвижные текла.
И солнце, словно рана пулевая,
облило свежей кровью облака...
Как первую любовь,
не забываю
и первого
убитого
врага.
✱ ✱ ✱
- Огонь! - и подкалиберный снаряд
метнулся синей проволокой к танку.
Но чуть левее гусеницы - в скат
горячая врезается врезается болванка.
Наводчик довернул маховичок,
и поднял перекрестье панорамы.
- Огонь! - но верещащею свечой
снаряд отрикошетил в небо прямо.
И в третий раз меняется прицел -
и весь расчёт меняется в лице:
танк
разворачивает
башню.
- Огонь! - на чёрной танковой броне
сверкнула фиолетовая искра,
и танк, остановившись наконец,
сухую землю гусеницей выскреб.
Бой длился вечность -
25 секунд!
✱ ✱ ✱
Как на формировке в Старой Буде
полюбила девушка солдата…
Никогда я в жизни не забуду
Зойку-санитарку из санбата.
Разбитная тульская сестрёнка
с розовым припудренным лицом,
в выстиранной старой гимнастёрке,
туго перехваченной ремнём.
Вечерами по тенистой стёжке
мы бродили с нею за рекой,
и её шершавые ладошки
пахли свежим мыло и травой.
Оплывало олово заката,
сырость наползала из болот, -
от девичьих от плечей покатых
исходило ровное тепло.
И на сердце было так покойно,
словно в мире не было войны,
словно, пережив уже все войны,
мы о них и думать не должны…
Как на формировке в Старой Буде
пожалела девушка солдата, -
никогда я в жизни не забуду
Зойку-санитара из санбата!
Ах, не одного приворожили
эти невозможные глаза -
трепетные, синие, большие,
как на древнерусских образах.
Словно в бочагах с водою вешней
небосвод качнулся - и затих…
Вот с таких, как ты,
земных и грешных,
и писались облики святых.
Судьба
Он мне сказал:
- Пойду-ка погляжу,
Когда ж большак саперы разминируют…
- Лежи, - ответил я, - не шебуршись.
И без тебя саперы обойдутся…
- Нет, я схожу, - сказал он, - погляжу
И он погиб: накрыло артогнем.
А не пошел бы - и остался жив.
Я говорю:
- Пойду-ка погляжу,
Когда ж большак саперы разминируют…
- Лежи, - ответил он, - не шебуршись.
И без тебя саперы обойдутся…
- Нет, я схожу, - сказал я, - погляжу
И он погиб: накрыло артогнем.
А вот пошел бы - и остался жив.
✱ ✱ ✱
Памяти техника-лейтенанта Анатолия Щукина из Моршанска
“До свиданья” не скажешь:
свиданья - не будет. А “прощай” -
не решаются вымолвить люди.
И уходят безмолвно в сосновую рамень,
и шуршит подорожник у них под ногами.
Запрокинулись сосны в лазурь головою
и полощут лениво зеленую хвою,-
и бойцов, уходящих из жизни до срока,
болтовнёю трескучей провожает сорока.
Ночная атака
Утопая в снегу, мы бежали за танками
А с высотки, где стыло в сугробах село,
били пушки по танкам стальными болванками
а по нам - минометчики, кучно и зло.
Мельтешило в глазах от ракет и от выстрелов.
Едкий танковый чад кашлем легкие драл
И хлестал по лицу - то ли ветер неистово,
то ли воздух волною взрывною хлестал.
Будь здоров нам бы фрицы намылили холку!
Но когда показалось, что нет больше сил -
неожиданно вспыхнул сарай на задворках,
точно кто-то плеснул на него керосин.
Ветер рвал и закручивал жаркое пламя
И вышвыривал искры в дымящийся мрак, -
Над высоткой, еще не захваченной нами,
Трепетал, полыхая, ликующий флаг.
Через час у костра мы сушили портянки…
Что видно из окопа
Что видно из окопа? -
заброшенный пустырь,
поросший лебедой,
полынью и ромашками -
исхлёстанные пулями;
повсюду - хлам и мусор:
похоже, горожане
устроили здесь свалку;
овражек травянистый
с корявыми сосёнками,
и заросли орешника -
осколками порубаны;
ребячий стадион -
лужайка, на которой
футбольные ворота
без перекладин сверху;
какая-то постройка,
сгоревшая дотла -
чернеют головёшки;
а рядом - бузина,
и ягоды - кровинками...
Что видно из окопа? -
булыжная шоссейка,
омытая дождями,
в шеренгах тополей;
зелёно-бурый танк,
подбитый на дороге, -
и башня набекрень;
воронки от снарядов
с отвалами земли,
а минные - помельче,
как треснувшие блюда;
да проволока ржавая
колючих заграждений
с присевшими стрекозами...
Что видно из окопа? -
бедняга воробей,
пораненный войною,
скакает через силу,
заваливаясь набок;
бугры кротовых куч,
после дождей нарытые;
мышонок полевой -
снуёт себе у норки,
корма заготовляет;
и тучи синих мух
над трупами убитых...
Что видно из окопа? -
немецкая траншея
у городка фабричного -
проходит огородами:
картофель и капуста;
окраинные домики:
разрушенные крыши,
проломанные стены,
распахнутые двери,
повыбитые окна -
и ни души вокруг;
и две трубы кирпичные
на фоне неба синего
с застывшими барашками
далёких облаков...
Что видно из окопа? -
да ничего особого:
нейтралка - вот и всё!
Замполит
Шли Брянщиной. Фриц драпает. Большое село - Ишово. Часть изб горит. Старуха произносила речь...
Из фронтового дневника. 20 сентября 1943 года
Помню:
стоя на пожухлом склоне,
вытянув натруженные руки,
к нам, идущим по селу колонной,
с речью обратилася старуха.
Стлался дым - чадили гарью хаты:
фрицы драпанули из села,
и остались после них, проклятых,
как обычно - пепел и зола.
И хотя уже мы пол-России
видели в руинах и слезах,
горло жгли старухины, простые,
не из книжек взятые слова.
И Вершинин Колька, мой наводчик,
произнёс серьёзно так на вид:
- Неплохой бы вышел, между прочим,
из мамаши этой замполит!..
А у замполита сдали нервы.
И, проковыляв с пригорка, мать
принялась над нами, как над мёртвыми,
жалобно, по-бабьи, причитать.
Тут мы растерялись на мгновенье.
А Вершинин Колька говорит:
- Мать! Не хорони нас прежде времени.
Это дело, знаешь, не горит...
И уж всё на свете перепутав
и не зная, как себя вести,
на прощанье стала нас старуха
по-крестьянски истово крестить.
И мы шли -
повзводно и поротно,
с Богом незнакомые вовек,
шли
в шеренгах, сдвинувшихся плотно,
словно все - один мы человек;
шли
под это крестное знаменье,
как когда-то предки наши шли,
шли сурово
под благословенье
русской
исстрадавшейся
земли.
Неудачный бой
Мы идем - и молчим. Ни о чем говорить нам не хочется.
И о чем говорить, если мы четверть часа назад
положили у той артогнем перепаханной рощицы
половину ребят - и каких, доложу вам, ребят!..
Кто уж там виноват -
разберутся начальники сами,
Наше дело мы сделали: сказано
было “вперед” - мы вперед.
А как шли!.. Это надобно видеть своими глазами,
как пехота, царица полей, в наступленье в охотку идет...
Трижды мы выходили на ближний рубеж для атаки.
Трижды мы поднимались с раскатистым криком “ура”.
Но бросала на землю разорванной цепи остатки
возле самых траншей пулеметным огнем немчура.
И на мокром лугу, там и сям, бугорочками серыми
оставались лежать в посеченных шинелях тела...
Кто-то где-то ошибся.
Что-то где-то не сделали.
А пехота все эти ошибки
оплачивай кровью сполна.
Мы идем - и молчим....
Сухая тишина
Шли танки...
И земля - дрожала.
Тонула в грохоте стальном.
И танковых орудий жала
белёсым брызгали огнём.
На батарее - ад кромешный!
Земля взметнулась к небесам.
И перебито, перемешано
железо с кровью пополам.
И дым клубится по опушке
слепой и едкой пеленой, -
одна, истерзанная пушка,
ещё ведёт неравный бой.
Но скоро и она, слабея,
заглохнет, взрывом изувечена,
и тишина - сухая, вечная -
опустится на батарею.
И только колесо ребристое
вертеться будет и скрипеть, -
здесь невозможно было выстоять,
а выстояв - не умереть.
ГЛАЗА
Если мертвому сразу глаза не закроешь,
То потом уже их не закрыть никогда.
И с глазами открытыми так и зароешь,
В плащ-палатку пробитую труп закатав.
И хотя никакой нет вины за тобою,
Ты почувствуешь вдруг, от него уходя,
Будто он с укоризной и тихою болью
Сквозь могильную землю глядит на тебя.
Пулеметчик
Памяти пулеметчика Юрия Свистунова, погибшего под Ленинградом.
По-волчьи поджарый, по-волчьи выносливый,
с обветренным, словно из жести, лицом, -
он меряет версты по пыльным проселкам,
повесив на шею трофейный "эмгач",
и руки свисают - как с коромысла.
И дни его мудрым наполнены смыслом.
У края дымящейся толом воронки
он шкурой познал философию жизни:
да жизнь коротка - как винтовочный выстрел
но пуля должна не пройти мимо цели.
И он - в порыжелой солдатской шинели -
шагает привычно по пыльным проселкам, -
бренчат в вещмешке пулеметные ленты,
торчит черенок саперной лопатки
и ствол запасной, завернутый в тряпки.
Он щурит глаза, подведенные пылью, -
как будто глядит из прошедшего времени
и больше уже никуда не спешит…
И только дорога - судьбою отмеренной -
Еще под ногами пылит и пылит.
✱ ✱ ✱
Прошлогодний окоп… Я их видел не раз.
Но у этого - с черной бойницею бруствер.
И во мне возникает то нервное чувство,
будто я под прицелом невидимых глаз.
Я не верю в предчувствия. Но себе - доверяю.
И винтовку с плеча не помешкав срываю
и ныряю в пропахшую толом воронку.
И когда я к нему подползаю сторонкой,
От прицельного выстрела камнями скрыт, -
по вспотевшей спине шевелятся мурашки:
из окопа - покрытый истлевшей фуражкой -
серый череп, ощеривши зубы, глядит…
Перекур
Рукопашная схватка внезапно утихла:
запалились и мы, запалились и немцы, -
и стоим, очумелые, друг против друга,
еле-еле держась на ногах…
И тогда кто-то хрипло сказал: "Перекур!"
Немцы поняли и закивали : "Я-а, паузе…"
и уселись - и мы, и они - на траве,
метрах, что ли, в пяти друг от друга,
положили винтовки у ног
и полезли в карманы за куревом…
Да, чего не придумает только война!
Расскажи - не поверят. А было ж!..
И когда докурили - молчком, не спеша,
не спуская друг с друга настороженных глаз,
для кого-то последние в жизни -
мы цигарки, они сигареты свои, -
тот же голос, прокашлявшись, выдавил:
"Перекур окончен!"
НАТУРАЛИЗМ
Памяти младшего лейтенанта Афанасия Козлова, комсорга батальона
Ему живот осколком распороло...
И бледный, с крупным потом на лице,
он грязными дрожащими руками
сгребал с землёю рваные кишки.
Я помогал ему, хотя из состраданья
его мне нужно было застрелить,
и лишь просил: «С землёю-то, с землёю,
зачем же ты с землёю их гребёшь?..»
И не было ни жутко, ни противно.
И не кривил я оскорблённо губ:
товарищ мой был безнадёжно ранен,
и я обязан был ему помочь...
Не ведал только я, что через годы,
когда об этом честно напишу, -
мне скажут те, кто пороху не нюхал:
«Но это же прямой натурализм!..»
И станут - утомительно и нудно -
учить меня, как должен я писать, -
а у меня всё будет пред глазами
товарищ мой кишки сгребать.
✱ ✱ ✱
Я бы давно уже - будь моя воля! -
на площади
соорудил бы
бесхитростный памятник лошади.
Только не тем величаво-державным кобылам,
что постаменты гранитные
крошат чугунным копытом,
а фронтовой неказистой
лошадке-трудяге,
главной в пехотных полках
механической тяге,
что, надрывая мотор свой
в одну лошадиную силу,
вместе с солдатами
грязь по просёлкам месила
и с неизменным,
почти человеческим мужеством
пушки тянула,
повозки с армейским имуществом,
чаще солдат погибая во время бомбёжек:
люди найдут, где укрыться,
а лошадь - не может,
ну и когда было туго весной
с продовольствием,
лошадь сама пищевым становилась
довольствием...
Я бы давно уже -
будь моя воля! - на площади
соорудил бы заслуженный
памятник лошади.
Трусость
Немцы встали в атаку…
Он не выдержал - и побежал.
- Стой, зараза! - сержант закричал,
Угрожающе клацнув затвором,
и винтовку к плечу приподнял.
- Стой, кому говорю?! -
Без разбора
трус,
охваченный страхом,
скакал,
и оборванный хлястик шинели
словно заячий хвост трепетал.
- Ах, дурак! Ах, дурак в самом деле…-
помкомвзвода чуть слышно сказал
и, привычно поставив прицел,
взял на мушку мелькавшую цель.
Хлопнул выстрел - бежавший упал.
Немцы были уже в ста шагах…
Сидел он бледный в водосточной яме.
За воротник катился крупный пот.
И грязными дрожащими руками
он зажимал простреленный живот.
Мы кое-как его перевязали...
Но вот, когда собрались уносить,
он, поглядев запавшими глазами,
вдруг попросил, чтоб дали покурить.
Под пеплом тлел огонь нежаркий,
дым отливал свинцовой синевой, -
курил солдат последнюю цигарку,
и пальцы не дрожали у него.
Мы хотели его отнести в медсанвзвод.
Но сержант постоял, поскрипел сапогами:
- Все равно он, ребята, дорогой помрет.
Вы не мучьте его и не мучайтесь сами...-
И ушел на капэ - узнавать про обед.
Умиравший хрипел. И белки его глаз
были налиты мутной, густеющей кровью.
Он не видел уже ни сержанта, ни нас:
смерть склонилась сестрой у его изголовья.
Мы сидели - и молча курили махорку.
А потом мы расширили старый окоп,
разбросали по дну его хвороста связку,
и зарыли бойца, глубоко-глубоко,
и на холм положили пробитую каску.
Возвратился сержант - с котелками и хлебом.
Они
Мы еле-еле их сдержали…
Те, что неслися впереди,
шагов шести не добежали
и перед бруствером упали
с кровавой кашей на груди.
А двое все-таки вскочили
в траншею на виду у всех.
И, прежде чем мы их скосили,
они троих у нас убили,
но руки не подняли вверх.
Мы их в воронку сволокли.
И молвил Витька Еремеев:
- А все же, как там ни пыли,
Чего уж там ни говори,
а воевать они - умеют,
гады!...
✱ ✱ ✱
Нет, я иду совсем не по Таганке -
иду по огневому рубежу.
Я - как солдат с винтовкой против танка:
погибну, но его не задержу.
И над моим разрушенным окопом,
меня уже нисколько не страшась,
танк прогрохочет бешеным галопом
и вдавит труп мой гусеницей в грязь.
И гул его и выстрелы неслышно
Заглохнут вскоре где-то вдалеке…
Ну что же, встретим, если так уж вышло,
и танк с одной винтовкою в руке.
Штыковой бой
(Триптих)
Мужи зрелые мы.
В свалке судеб
Нам по плечу борьба.
Алкей
1
Команды в этом гаме не слыхать
но видишь краем глаза, как помвзвода
натренированно бросает через бруствер
своё сухое жилистое тело
и хищно изогнувшись, берёт винтовку:
"В штыки!..."
Он не бежит и не кричит "ура"
и лозунгов, оборотясь, не произносит:
он - бережёт дыхание;
шагает голенасто, петляя на ходу,
чтоб сбить с прицела фрицев, -
а мы ...
а мы, ну как во сне дурном,
бежим - и всё догнать его не можем ...
И как во сне дурном -
накатывает цепь серо-зелёных кителей и брюк
и топот кованых сапог;
белеют в руках гранаты
на длинных деревянных рукоятках:
сейчас противник даст гранатный залп!
Но помкомвзвода, упреждая,
зубами рвёт чеку у РГДэ,
потом ещё у трёх поочерёдно, -
и желтоватый дым гранатных взрывов
пятнает атакующую цепью
Он бьёт гранатами за сорок метров,
а мы - на двадцать, двадцать пять:
подводят нервы;
ведь что там не толкуй,
а воронёный блеск кинжального штыка,
примкнутого к немецким карабинам,
мутит сознание,
и кажется, что снится сон дурной ...
Но и во сне есть логика,
И мы, опережая помкомвзвода,
бросаемся в штыки -
забыв про смерть, забыв про жизнь.
Он же,
затвором лязгнув, вгоняет в ствол патрон
и, опустившись мягко на колено,
срезает ближнего зарвавшегося гада.
В таком бою и с двух шагов промажешь:
мешает напряжение,
но помкомвзвода рубит как на стрельбище:
обойма, пять патронов, - и пять трупов,
и очень редко мимо,
и то лишь потому, чтоб в этой свалке
не угодить в своих.
2
Когда фашисты подойдут так близко,
что их - огнём уже не положить,
тогда,
чтоб победить или погибнуть,
пехота
подымается
в штыки.
И сразу мир сужается до жути.
И не свернуть ни вправо и ни влево.
Навстречу - как по узенькой тропинке,
бежит твой враг, убийца и палач.
И ты следишь приковано за ним.
И, с каждым шагом ближе надвигаясь,
не сводишь взгляда с потного лица,
застывшего в свирепой неподвижности.
И он тебя приметил на ходу.
И взор его с твоим схлестнётся взором.
И с этого мгновенья - только смерть
способна вас избавить друг от друга.
А то, что прочитает враг
в ответ в твоём солдатском взгляде,
и предрешит исход единоборства
удар штыка - всего лишь точка
в конце психологической дуэли.
3
Я не помню, было ли мне страшно.
Только помню - после боя
пальцы плохо гнулись и дрожали,
и не мог свернуть я самокрутку.
Я не помню, было ли мне страшно.
Только помню - если был когда я
в этой жизни счастлив без остатка,
то тогда лишь - после штыковой,
когда пальцы так дрожали,
что не смог свернуть я самокрутку.
Женя Дягилев мне сунул в рот свою ...
Скрипун
«Скрипун», «скрипач», «ишак» -
так на фронте называли немецкие
шестиствольные миномёты; о них не
говорили «стреляют», говорили - «играют».
Истошным скрипом душу обжигая -
как будто кто гвоздём стекло скребёт, -
из-за высотки бешено играет
немецкий шестиствольный миномёт.
И продолженьем скрежета и визга,
дыхание не дав перевести,
уже над нами, где-то очень близко,
шестёрка
мин метровых
шелестит.
И вдавливает в землю и вжимает
стремительно
спускающийся
вой,
и взрывы - как чечётку выбивают
железом на булыжной мостовой.
… Когда промчится рядом электричка
и с ходу вой свирепо в уши бьёт,
я вздрагиваю: старая привычка -
проклятый шестиствольный миномёт!..
Обида
Его прислали в роту с пополненьем.
И он, безусый, щуплый паренёк,
разглядывал с наивным удивленьем
такой простой и страшный «передок».
Ему всё было очень интересно.
Он никогда ещё не воевал.
И он войну коварную, конечно,
по фильмам популярным представлял.
Он неплохим потом бы стал солдатом:
повоевал, обвык, заматерел …
Судьба ему - огнём из автомата -
совсем другой сготовила удел.
Он даже и не выстрелил ни разу,
не увидал противника вблизи
и после боя, потный и чумазый,
трофейными часами не форсил.
И помкомвзвода, водку разливая,
не произнёс весёлые слова:
- А новенький-то, бестия такая,
ну прямо как Суворов воевал!..
И кажется, никто и не запомнил
ни имя, ни фамилию его, -
лишь писарь ротный к вечеру заполнил
графу «убит» в записке строевой.
Лежал он - всем семи ветрам открытый,
блестела каска матово в кустах,
и на судьбу нелепую - обида
навек застыла в выцветших глазах.
Душа и тело
В бою теряешь ощущенье плоти.
Нет тела - есть одна душа,
припавшая к прикладу ППШа.
И как во сне - и жутко и легко,
и сизой гарью даль заволокло,
и ты скользишь в немыслимом полете…
И пробужденье - словно ото сна.
Стоишь - и смотришь обалдело.
И за собой приводит тишина
невзгоды перетруженного тела.
Душа опять соединилась с плотью.
И боль ее прокалывает поздняя.
И вялой струйкой кровь венозная
течет по раненому локтю.
✱ ✱ ✱
Нас поедом грызли фронтовые свирепые вши.
В землянках, где спали мы, гасли от вони коптилки.
Задыхались от трупных миазмов - врагов и своих.
И потом, тяжелым и острым, разило от нас.
Мы были солдатами, были на фронте - и поняли
из какого живого состава состоит человек.
Странно звучит этот старый цыганский романс
здесь, в блиндаже, под аккорды солдатской гитары:
«Нет, не хочу я любви мимолетной,
Пусть ее жаждет другой кто-нибудь.
Если полюбит, то скоро разлюбит,
Сердце остынет и скажет: «Забудь!»
Нет, не хочу я любви мимолетной.
Пусть ее жаждет другой кто-нибудь».
У бронебойщика хриплый, прокуренный голос.
Слиплись на лбу - из-под каски упавшие волосы.
Он и гитара прошли сто дорог фронтовых,
но не усохли душой в грохоте танковых траков:
«Нет, не хочу я любви мимолетной,
Пусть ее жаждет другой кто-нибудь.
Если полюбит, то скоро разлюбит,
Сердце остынет и скажет: «Забудь!»
Встретит он завтра в окопе, с ружьем бронебойным,
час свой последний... Но прежде - от выстрела резкого
танк запылает мазутно-оранжевым пламенем,
и бронебойщик, хмельной от восторга и ярости,
вдруг заорет, запоет во все горло с напарником:
«Нет, не хочу я любви мимолетной,
Пусть ее жаждет другой кто-нибудь!» -
строчки заветные песни своей лебединой...
Плохое настроение
Курим мы вонючий самосад -
«смерть немецким оккупантам» -
И ругаем всех подряд:
фрицев,
командиров,
интендантов…
Фрицев - ну понятно, почему,
Тут не подойдут слова из книжки:
принесло фашистскую чуму -
чтобы им ни дна и ни покрышки!
Командиров? ..
Как бы командир
на войне умно ни полководил,
а солдат считает - он один
сам себе в окопе маршал вроде.
Ну, а интендантов - для порядку:
ежели с утра их не отлаешь,
цельный день какую-то нехватку
на душе досадно ощущаешь,
Будто всё пошло вперекосяк.
и война чудной какой-то стала,
а помянешь этак их и так,
смотришь - и маленько полегчало.
Вы уж нас простите, интенданты!
Командиры тоже нас простят …
А вот этих музыкантов,
гитлеровских сытых поросят,
что играют вальсы на высотке
на губных гармошках в блиндажах, -
этим мы ужо повырвем глотки,
задрожит арийская душа,
когда,
вскинув на руку винтовки,
взяв на изготовку ППШа,
хлынем мы свирепо на высотку,
матерясь и тяжело дыша.
Там мы отыграемся вполне.
Душу отведут нормально хлопцы.
И ни у кого за этот гнев
нам простить прощенья
не придётся!
ПЕРЕД АТАКОЙ
Лейтенанту Валерию Дементьеву, саперу
Примкнуты штыки и подсумки расстегнуты.
Запалы в гранаты поввинчены намертво.
Присели солдаты в траншее на корточки
с чужими, застывшими, серыми лицами.
Ну что же, товарищ! - вперед так вперед.
Уйми суматошно стучащее сердце.
Пусть будет, что будет, - и стерва-война
промечет свой жребий: орел или решка...
Коростель
Спит на сырой земле усталая пехота, -
согнувшись, сунув руки в рукава.
Туман лежит в низинке над болотом,
и поседела от росы трава.
День снова будет солнечным и знойным.
Дрожащим маревом подёрнутся поля.
И в грохоте орудий дальнобойных
потонет мирный скрип коростеля.
И от жары, усталости и грохота
Пехоту так в окопах разморит,
что сразу даже помкомвзвода опытный
не разберёт - кто спит, а кто убит …
И ничего порой не оставалось,
как разрядить над ухом автомат:
чугунная, смертельная усталость
валила с ног измученных солдат.
На фронте было времени полно
копать, стрелять, швырнуть гранаты, драться,
но не хватало только на одно -
по-человечьи, вволю, отоспаться.
И потому бывалые солдаты
Смотрели на проблему эту:
- Коль повезёт, то выспимся в санбате;
Не повезёт - так, значит на том свете...
Спит мёртвым сном продрогшая пехота.
Покоем дышит бранная земля.
И в зарослях глухих чертополоха
такой домашний скрип коростеля.
Муравей
Здесь нет земли. Один металл.
Ползёшь - колени ноют от осколков.
Здесь столько раз огонь пробушевал,
мин и снарядов разорвалось столько,
что стало - как мёртвая планета,
где и узреть, кроме воронок, ничего,
где, кажется, и жизни вовсе нету,
где не учуешь стрёкота кузнечиков,
где в обожжённой взрывами траве
не путешествует по стебельку плутовка -
в пальтишке красном божия коровка, -
и только рыжий дошлый муравей,
неутомимостью похожий на солдата,
спешит по брустверу куда-то …
Баллада про окурок
Газует игрушечный «газик»
По ленте пустого шоссе,
А «мессер» пикирует сзади,
Подобный гремящей осе;
И как рубанёт по машине
Из двух пулемётов - ого! -
И в клочья клеёнка кабины,
И вдрызг ветровое стекло.
Шофёр - ну рискованный парень! -
Машину ведёт словно зверь:
Одною рукой - за баранку,
Другой - за открытую дверь;
И, высунув голову, крутит
Башкою, следя за пике, -
И толстый холодный окурок
Приклеился к нижней губе.
Коса напоролась на камень!
И, выжав вдали разворот,
Стервятник, чернея крестами,
Навстречу машине идёт;
И выпустив очередь, снова
Заходит в крутое пике, -
Висит и висит у шофёра
Окурок на нижней губе.
И вот, расстреляв все патроны,
В последний, прощальный заход
Пилот вдоль кювета наклонно
Повёл, сбросив газ, самолёт,
И, выйдя из автомашины,
Водитель увидел вблизи,
Как лётчик, ссутуливши спину,
Ему кулаком погрозил.
Но есть же такие ребята!
И тут не промазал шофёр -
И жестом лихого солдата
Закончил лихой разговор.
Потом постоял и послушал,
Пока гул вдали не заглох, -
Достал из кармана «катюшу» -
Погасший окурок зажёг.
Под пулеметным огнем
Старшему лейтенанту В.Шорору
Из черной щели амбразуры -
Из перекошенного рта -
по нас,
по полю,
по лазури -
“та-та-та-та”, “та-та-та-та”.
А мы лежим и хрипло дышим,
уткнувшись касками в траву,
и пули - спинами мы слышим -
у ног тугую землю рвут.
И страшно даже шевельнуться
под этим стелющим огнем…
А поле - гладкое как блюдце,
и мы - как голые на нем.
Он самодур
Он самодур.
Врождённый самодур и тупица.
Но у него на погонах звездочка,
и мы - хотим, не хотим -
должны ему подчиняться.
Он уже загубил половину роты
и собирается погубить другую.
Но и мы кое-чему научились,
и когда он бросает нас
на проволочные заграждения,-
мы расползаемся по воронкам
и ждем, когда ему надоест
надрывать горло из окопа,
он вылезет и начнет поднимать нас
под огонь немецких пулеметов.
Однажды он и сам угодит под него.
Слёзы
Плыла тишина по стерне -
над полем, разрывами взрытым,
и медленно падавший снег
ложился на лица убитых.
Они были теплы.
И снег на щеках у них таял,
И словно бы слёзы текли,
полоски следов оставляя.
Текли, как у малых ребят,
Прозрачные, капля за каплей …
Не плакал при жизни солдат,
а вот после смерти -
заплакал.
Окопный концерт
Днём мы воюем, ночью - лаемся.
От них до нас - ну, метров шестьдесят.
И слышно, когда за день наломаемся,
как немцы по траншее колготят.
Поужинаем. Выпьем по сто граммов.
Покурим… И в какой-нибудь момент
по фронтовой проверенной программе
окопный начинается концерт.
- Эй, вы! - шумим. - Ну как дела в Берлине?
Адольф не сдох?.. Пусть помнит, сукин сын,
что мы его повесим на осине,
когда возьмём проклятый ваш Берлин!..
Заводим фрицев с полуоборота.
И те, чтобы престиж не утерять,
нам начинают с интересом что-то
про Сталина и Жукова кричать.
- Не фронт, а коммунальная квартира, -
Ворчит сержант. - Неужто невдомёк,
что гансы могут - даже очень мило -
к нам, падлы, подобраться под шумок?..
И, видя, что слова не помогают,
из станкача по немцам даст сполна!
Концерт окончен.
Публика - стихает.
И снова продолжается война…
В ОКРУЖЕНИИ
Одиночества я не боюсь.
Я боюсь без патронов остаться.
Без патронов - какой я солдат?
А с патронами можно прорваться.
Потрясу у погибших подсумки.
Да и карманы проверю.
И пойду, наподобие зверя,
прямиком - по лесам и болотам.
Буду я, сам за себя отвечая,
под бурчание в брюхе брести, -
и пускай, кому жизнь надоела,
повстречается мне на пути!..
ХАРЧИ
(Диптих)
1
Ну, делать нечего!.. Пора сдаваться в плен.
Их трое. На повозке. Пожилые.
Везут чего-то. И кажись - харчи!
И выхожу один я на просёлок.
Винтовки нет, подсумка тоже, распояской:
архаровец, алкаш, бродяга!
- Зольдатен, гутен таг! Них шисен! Их сдаюсь!.. -
И лапы задираю - и стою
распятый, как Иисус Христос.
Подходят. Карабины - за спиной.
- О, рус, плиен? Дас ист зер гут! -
И хлопают, улыбаясь по плечам, -
ну, суки, словно в гости препожаловали!
А я медаль снимаю с гимнастёрки:
- Прошу вас! Битте! Маин сувенир, -
и отвожу за спину руки - как положено.
Я знаю, на какой крючок ловлю я рыбу:
медали их - медяшки против наших!
И - головы впритык - разглядывают «За отвагу».
Я вынимаю финский нож из ножен,
надетых сзади на брючной ремень,
и трижды атакую - стремительно, безжалостно!..
2
Месяц назад - я подался в деревню.
Вышел старик:
- Ну чего тебе тут?..
А-а отощал. Побираешься, значит!
Выдали нас на съедение германцу -
ну и теперича мы и харчуй?..
Нет, не получится, мать твою душу!
Может, и сын мой таскается с вами,
встренешь - скажи, не пущу на порог…
Хо! - и медальку, гляди, нацепил.
Понаделали вам всяких медалев,
а воевать - ни хрена не умеете…
Вот тебе парень махры на дорогу,
харч - у германца… Бывай! -
Ну и дверями он так саданул,
что на печи ребятишки заплакали.
На другой день в первый раз я и пошёл харчиться к фрицам.
Ничего! - только хлеб пресноватый да в консервах много перцу.
ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА
Стоял - ссутулившись горбато.
Молчал - к груди прижав гранату…
И навсегда избавился от плена:
исчез в дыму по самые колена.
И в сторону упали две ноги -
как два полена.
ЛЕЙТЕНАНТ
Мы - драпали. А сзади лейтенант
бежал и плакал от бессилия и гнева.
И оловянным пугачом наган
семь раз отхлопал в сумрачное небо.
А после, как сгустилась темнота
и взвод оплошность смелостью исправил,
спросили мы: - Товарищ лейтенант,
а почему по нам вы не стреляли?..
Он помолчал, ссутулившись устало.
И, словно память трудную листая,
ответил нам не по уставу:
- Простите, но в своих я не стреляю.
Его убило пару дней спустя.
ХУТОР
Старшему сержанту Вячеславу Кондратьеву
Этот хутор никто не приказывал брать.
Но тогда бы пришлось на снегу ночевать.
А морозы в ту зиму такие стояли -
воробьи в деревнях на лету замерзали.
И поскольку своя - не чужая забота,
поднялась, как один, вся стрелковая рота.
И потом ночевали… половина - на хуторе,
а другая - снегами навеки окутана.
✱ ✱ ✱
Портится февральская погода,
Вечер опускается над степью.
Сиротеет на снегу пехота
поредевшей, выкошенной цепью.
Колкая, звенящая позёмка
заметает, как кладёт заплаты,
минные остывшие воронки,
трупы в маскировочных халатах,
рукавицы, брошенные в спешке,
россыпи отстрелянных патронов,
лужи крови в ледяных узорах -
и живых бойцов, окоченевших
в снежных осыпающихся норах.
Тишина…
Лишь простучит сторожко
фрицевский дежурный пулемёт -
зыбкой, исчезающей дорожкой
снежные и взметёт.
До костей пронизывает стужа
и тоска - до самых до костей.
Хоть бы принесли скорее ужин -
стало бы маленько потеплей…
А позёмка снег гонит, вертит,
И могилой кажется нора:
ведь лежать нам тут
до самой смерти,
или -
что страшнее -
до утра.
Там, по ссылке, еще много
Еще здесь много стихов Юрия Белаша
Да, это не лирические кружева "розы - морозы", "любовь - морковь", это переложенный на язык поэзии, причем на шершавый, корявый, жесткий язык, жуткий опыт того, кто "был сержантом в стрелковом батальоне, в нескольких сотнях метров от врагов и в нескольких сантиметрах от смерти". Не для слабонервных снобов и пижонов. Но без такого сурового, страшного, нечеловеческого опыта не бывает победы. Как без Юрия Белаша не было бы Победы.
Светлая память воину Георгию! Царствие ему Небесное.
Мой поэторий
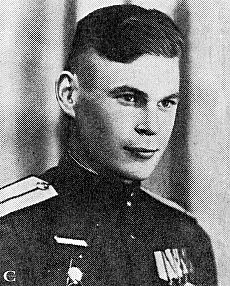
Юрий Семёнович Белаш. 1920 - 1988. Поэт-фронтовик с неординарной судьбой-биографией, о которой он сам рассказывает здесь, там и стихов много.
Мне довелось с ним пообщаться, когда я работал в "Неделе", в отделе литературы и искусства. Нам его порекомендовал Вячеслав Кондратьев, они дружили. Когда Белаш пришел, мрачный и настороженный, хотя его пригласили, чтобы он сам дал нам стихотворения, которые хочет опубликовать (у него тогда практически не было публикаций), он первым делом спросил нас, то есть редактора отдела и меня: "Чтобы разговаривать с человеком, мне надо знать, какая у него зарплата. Так сколько вы получаете?". Мы не стали скрывать наши весьма скромные оклады. Но меня, честно говоря, удивило, почему пожилого фронтовика - а это было, увы, за два года его смерти, в 1986 году - интересуют такие "суетные" нюансы. Типа поэт должен думать "о высоком"...
Однако поэзия Юрия Белаша - тоже отнюдь не "о высоком". Это самая настоящая, чистейшая окопная правда, со всеми кровавыми и неаппетитными подробностями. Так ведь война - дело грязное и совсем не романтическое.
Считайте, что я предупредил.
Пехоту обучали воевать.
Пехоту обучали убивать.
Огнем. Из трехлинейки, на бегу,
Все пять патронов - по знакомой цели,
По лютому, заклятому врагу
В серо-зеленой, под ремень, шинели.
Гранатою. Немного задержав,
К броску уже готовую гранату,
Чтоб, близко у ноги врага упав,
Сработал медно-желтый детонатор.
Штыком. Одним движением руки.
Неглубоко, на полштыка, не дале.
А то, бывали случаи, штыки
В костях, как в древесине, застревали.
Прикладом. Размахнувшись от плеча,
Затыльником в лицо или ключицу.
И бей наверняка, не горячась,
Промажешь - за тебя не поручиться.
Саперною лопаткою. Под каску.
Не в каску - чуть пониже, по виску,
Чтоб кожаная лопнула завязка
И каска покатилась по песку.
Армейскими ботинками. В колено.
А скрючится от боли - по лицу.
В крови чтобы горячей и соленой
Навеки захлебнуться подлецу.
И, наконец - лишь голыми руками.
Подсечкою на землю положи,
И, скрежеща от ярости зубами,
Вот этими руками задуши!
С врагом необходимо воевать.
Врага необходимо убивать.
В патронник загоню патрон.
Затвор поставлю на предохранитель.
Готово всё для похорон -
давайте, что ли, подходите.
Берите.
Но запомните одно:
ох, дорого вам это обойдётся! -
коль скоро мне греметь на дно,
то вам меня сопровождать придётся.
Я жизнь свою задаром не отдам.
Умоюсь я - и вас умою кровью.
Мы смерть разделим пополам,
и вашу долю - вам я приготовлю.
И то, что это не болтовня,
вы сами в этом скоро убедитесь,
и прежде чем приняться за меня -
вы за себя сначала помолитесь.
Пускай глаза мне выклюют вороны
и белый свет я больше не увижу, -
до самого последнего патрона
не принимаю вас
и ненавижу.
Я кончил.
Ровен сердца стук.
И отжимаю я предохранитель.
Ну, что вы заскучали вдруг?
Давайте, суки, подходите!..
✱ ✱ ✱
Очистка от противника траншей -
гранатами, штыками, финками,
и топчем, топчем трупы егерей
армейскими тяжёлыми ботинками.
Ответят за войну и за разбой!
Мы их живыми, гадов, не отпустим.
Мы их потом, когда окончим бой,
как брёвна, выбросим за бруствер.
Под селом Милеевом - порядок!
П. А. Иванову и Захарову, вдвоём державшим растянутую оборону в августе 1943-го под селом Милеевом Брянской области
- Хрен фашисты нас отсюда стронут!
Ни черта им, жабам, не заметно…
Два сержанта держат оборону
На участке в двести метров.
Замаскировали вдоль траншеи
ППШа, гранаты и винтовки,
а на флангах вытянули шеи
станкачи - с патронами у глотки.
- Днём мы отдыхаем кверху носом.
Я - сначала, а потом - Захаров.
Ну а ночью - ходим по окопам
и даём скотине этой жару…
А вчера я сползал к ним в разведку:
гансы в блиндаже хлебали щи;
я не растерялся - случай редкий! -
пулемёт с коробками стащил.
Ох и было, мать честная, звону!
С полчаса плевали против ветра,
Только хрен подавишь оборону,
если два штыка на двести метров.
Иванов лукаво щурит глаз.
Финский нож болтается у пояса.
- Словом, тут порядочек у нас.
Можете, сосед, не беспокоиться.
Он
Он на спине лежал, раскинув руки,
в примятой ржи, у самого села, --
и струйка крови, чёрная, как уголь,
сквозь губы неподвижные текла.
И солнце, словно рана пулевая,
облило свежей кровью облака...
Как первую любовь,
не забываю
и первого
убитого
врага.
✱ ✱ ✱
- Огонь! - и подкалиберный снаряд
метнулся синей проволокой к танку.
Но чуть левее гусеницы - в скат
горячая врезается врезается болванка.
Наводчик довернул маховичок,
и поднял перекрестье панорамы.
- Огонь! - но верещащею свечой
снаряд отрикошетил в небо прямо.
И в третий раз меняется прицел -
и весь расчёт меняется в лице:
танк
разворачивает
башню.
- Огонь! - на чёрной танковой броне
сверкнула фиолетовая искра,
и танк, остановившись наконец,
сухую землю гусеницей выскреб.
Бой длился вечность -
25 секунд!
✱ ✱ ✱
Как на формировке в Старой Буде
полюбила девушка солдата…
Никогда я в жизни не забуду
Зойку-санитарку из санбата.
Разбитная тульская сестрёнка
с розовым припудренным лицом,
в выстиранной старой гимнастёрке,
туго перехваченной ремнём.
Вечерами по тенистой стёжке
мы бродили с нею за рекой,
и её шершавые ладошки
пахли свежим мыло и травой.
Оплывало олово заката,
сырость наползала из болот, -
от девичьих от плечей покатых
исходило ровное тепло.
И на сердце было так покойно,
словно в мире не было войны,
словно, пережив уже все войны,
мы о них и думать не должны…
Как на формировке в Старой Буде
пожалела девушка солдата, -
никогда я в жизни не забуду
Зойку-санитара из санбата!
Ах, не одного приворожили
эти невозможные глаза -
трепетные, синие, большие,
как на древнерусских образах.
Словно в бочагах с водою вешней
небосвод качнулся - и затих…
Вот с таких, как ты,
земных и грешных,
и писались облики святых.
Судьба
Он мне сказал:
- Пойду-ка погляжу,
Когда ж большак саперы разминируют…
- Лежи, - ответил я, - не шебуршись.
И без тебя саперы обойдутся…
- Нет, я схожу, - сказал он, - погляжу
И он погиб: накрыло артогнем.
А не пошел бы - и остался жив.
Я говорю:
- Пойду-ка погляжу,
Когда ж большак саперы разминируют…
- Лежи, - ответил он, - не шебуршись.
И без тебя саперы обойдутся…
- Нет, я схожу, - сказал я, - погляжу
И он погиб: накрыло артогнем.
А вот пошел бы - и остался жив.
✱ ✱ ✱
Памяти техника-лейтенанта Анатолия Щукина из Моршанска
“До свиданья” не скажешь:
свиданья - не будет. А “прощай” -
не решаются вымолвить люди.
И уходят безмолвно в сосновую рамень,
и шуршит подорожник у них под ногами.
Запрокинулись сосны в лазурь головою
и полощут лениво зеленую хвою,-
и бойцов, уходящих из жизни до срока,
болтовнёю трескучей провожает сорока.
Ночная атака
Утопая в снегу, мы бежали за танками
А с высотки, где стыло в сугробах село,
били пушки по танкам стальными болванками
а по нам - минометчики, кучно и зло.
Мельтешило в глазах от ракет и от выстрелов.
Едкий танковый чад кашлем легкие драл
И хлестал по лицу - то ли ветер неистово,
то ли воздух волною взрывною хлестал.
Будь здоров нам бы фрицы намылили холку!
Но когда показалось, что нет больше сил -
неожиданно вспыхнул сарай на задворках,
точно кто-то плеснул на него керосин.
Ветер рвал и закручивал жаркое пламя
И вышвыривал искры в дымящийся мрак, -
Над высоткой, еще не захваченной нами,
Трепетал, полыхая, ликующий флаг.
Через час у костра мы сушили портянки…
Что видно из окопа
Что видно из окопа? -
заброшенный пустырь,
поросший лебедой,
полынью и ромашками -
исхлёстанные пулями;
повсюду - хлам и мусор:
похоже, горожане
устроили здесь свалку;
овражек травянистый
с корявыми сосёнками,
и заросли орешника -
осколками порубаны;
ребячий стадион -
лужайка, на которой
футбольные ворота
без перекладин сверху;
какая-то постройка,
сгоревшая дотла -
чернеют головёшки;
а рядом - бузина,
и ягоды - кровинками...
Что видно из окопа? -
булыжная шоссейка,
омытая дождями,
в шеренгах тополей;
зелёно-бурый танк,
подбитый на дороге, -
и башня набекрень;
воронки от снарядов
с отвалами земли,
а минные - помельче,
как треснувшие блюда;
да проволока ржавая
колючих заграждений
с присевшими стрекозами...
Что видно из окопа? -
бедняга воробей,
пораненный войною,
скакает через силу,
заваливаясь набок;
бугры кротовых куч,
после дождей нарытые;
мышонок полевой -
снуёт себе у норки,
корма заготовляет;
и тучи синих мух
над трупами убитых...
Что видно из окопа? -
немецкая траншея
у городка фабричного -
проходит огородами:
картофель и капуста;
окраинные домики:
разрушенные крыши,
проломанные стены,
распахнутые двери,
повыбитые окна -
и ни души вокруг;
и две трубы кирпичные
на фоне неба синего
с застывшими барашками
далёких облаков...
Что видно из окопа? -
да ничего особого:
нейтралка - вот и всё!
Замполит
Шли Брянщиной. Фриц драпает. Большое село - Ишово. Часть изб горит. Старуха произносила речь...
Из фронтового дневника. 20 сентября 1943 года
Помню:
стоя на пожухлом склоне,
вытянув натруженные руки,
к нам, идущим по селу колонной,
с речью обратилася старуха.
Стлался дым - чадили гарью хаты:
фрицы драпанули из села,
и остались после них, проклятых,
как обычно - пепел и зола.
И хотя уже мы пол-России
видели в руинах и слезах,
горло жгли старухины, простые,
не из книжек взятые слова.
И Вершинин Колька, мой наводчик,
произнёс серьёзно так на вид:
- Неплохой бы вышел, между прочим,
из мамаши этой замполит!..
А у замполита сдали нервы.
И, проковыляв с пригорка, мать
принялась над нами, как над мёртвыми,
жалобно, по-бабьи, причитать.
Тут мы растерялись на мгновенье.
А Вершинин Колька говорит:
- Мать! Не хорони нас прежде времени.
Это дело, знаешь, не горит...
И уж всё на свете перепутав
и не зная, как себя вести,
на прощанье стала нас старуха
по-крестьянски истово крестить.
И мы шли -
повзводно и поротно,
с Богом незнакомые вовек,
шли
в шеренгах, сдвинувшихся плотно,
словно все - один мы человек;
шли
под это крестное знаменье,
как когда-то предки наши шли,
шли сурово
под благословенье
русской
исстрадавшейся
земли.
Неудачный бой
Мы идем - и молчим. Ни о чем говорить нам не хочется.
И о чем говорить, если мы четверть часа назад
положили у той артогнем перепаханной рощицы
половину ребят - и каких, доложу вам, ребят!..
Кто уж там виноват -
разберутся начальники сами,
Наше дело мы сделали: сказано
было “вперед” - мы вперед.
А как шли!.. Это надобно видеть своими глазами,
как пехота, царица полей, в наступленье в охотку идет...
Трижды мы выходили на ближний рубеж для атаки.
Трижды мы поднимались с раскатистым криком “ура”.
Но бросала на землю разорванной цепи остатки
возле самых траншей пулеметным огнем немчура.
И на мокром лугу, там и сям, бугорочками серыми
оставались лежать в посеченных шинелях тела...
Кто-то где-то ошибся.
Что-то где-то не сделали.
А пехота все эти ошибки
оплачивай кровью сполна.
Мы идем - и молчим....
Сухая тишина
Шли танки...
И земля - дрожала.
Тонула в грохоте стальном.
И танковых орудий жала
белёсым брызгали огнём.
На батарее - ад кромешный!
Земля взметнулась к небесам.
И перебито, перемешано
железо с кровью пополам.
И дым клубится по опушке
слепой и едкой пеленой, -
одна, истерзанная пушка,
ещё ведёт неравный бой.
Но скоро и она, слабея,
заглохнет, взрывом изувечена,
и тишина - сухая, вечная -
опустится на батарею.
И только колесо ребристое
вертеться будет и скрипеть, -
здесь невозможно было выстоять,
а выстояв - не умереть.
ГЛАЗА
Если мертвому сразу глаза не закроешь,
То потом уже их не закрыть никогда.
И с глазами открытыми так и зароешь,
В плащ-палатку пробитую труп закатав.
И хотя никакой нет вины за тобою,
Ты почувствуешь вдруг, от него уходя,
Будто он с укоризной и тихою болью
Сквозь могильную землю глядит на тебя.
Пулеметчик
Памяти пулеметчика Юрия Свистунова, погибшего под Ленинградом.
По-волчьи поджарый, по-волчьи выносливый,
с обветренным, словно из жести, лицом, -
он меряет версты по пыльным проселкам,
повесив на шею трофейный "эмгач",
и руки свисают - как с коромысла.
И дни его мудрым наполнены смыслом.
У края дымящейся толом воронки
он шкурой познал философию жизни:
да жизнь коротка - как винтовочный выстрел
но пуля должна не пройти мимо цели.
И он - в порыжелой солдатской шинели -
шагает привычно по пыльным проселкам, -
бренчат в вещмешке пулеметные ленты,
торчит черенок саперной лопатки
и ствол запасной, завернутый в тряпки.
Он щурит глаза, подведенные пылью, -
как будто глядит из прошедшего времени
и больше уже никуда не спешит…
И только дорога - судьбою отмеренной -
Еще под ногами пылит и пылит.
✱ ✱ ✱
Прошлогодний окоп… Я их видел не раз.
Но у этого - с черной бойницею бруствер.
И во мне возникает то нервное чувство,
будто я под прицелом невидимых глаз.
Я не верю в предчувствия. Но себе - доверяю.
И винтовку с плеча не помешкав срываю
и ныряю в пропахшую толом воронку.
И когда я к нему подползаю сторонкой,
От прицельного выстрела камнями скрыт, -
по вспотевшей спине шевелятся мурашки:
из окопа - покрытый истлевшей фуражкой -
серый череп, ощеривши зубы, глядит…
Перекур
Рукопашная схватка внезапно утихла:
запалились и мы, запалились и немцы, -
и стоим, очумелые, друг против друга,
еле-еле держась на ногах…
И тогда кто-то хрипло сказал: "Перекур!"
Немцы поняли и закивали : "Я-а, паузе…"
и уселись - и мы, и они - на траве,
метрах, что ли, в пяти друг от друга,
положили винтовки у ног
и полезли в карманы за куревом…
Да, чего не придумает только война!
Расскажи - не поверят. А было ж!..
И когда докурили - молчком, не спеша,
не спуская друг с друга настороженных глаз,
для кого-то последние в жизни -
мы цигарки, они сигареты свои, -
тот же голос, прокашлявшись, выдавил:
"Перекур окончен!"
НАТУРАЛИЗМ
Памяти младшего лейтенанта Афанасия Козлова, комсорга батальона
Ему живот осколком распороло...
И бледный, с крупным потом на лице,
он грязными дрожащими руками
сгребал с землёю рваные кишки.
Я помогал ему, хотя из состраданья
его мне нужно было застрелить,
и лишь просил: «С землёю-то, с землёю,
зачем же ты с землёю их гребёшь?..»
И не было ни жутко, ни противно.
И не кривил я оскорблённо губ:
товарищ мой был безнадёжно ранен,
и я обязан был ему помочь...
Не ведал только я, что через годы,
когда об этом честно напишу, -
мне скажут те, кто пороху не нюхал:
«Но это же прямой натурализм!..»
И станут - утомительно и нудно -
учить меня, как должен я писать, -
а у меня всё будет пред глазами
товарищ мой кишки сгребать.
✱ ✱ ✱
Я бы давно уже - будь моя воля! -
на площади
соорудил бы
бесхитростный памятник лошади.
Только не тем величаво-державным кобылам,
что постаменты гранитные
крошат чугунным копытом,
а фронтовой неказистой
лошадке-трудяге,
главной в пехотных полках
механической тяге,
что, надрывая мотор свой
в одну лошадиную силу,
вместе с солдатами
грязь по просёлкам месила
и с неизменным,
почти человеческим мужеством
пушки тянула,
повозки с армейским имуществом,
чаще солдат погибая во время бомбёжек:
люди найдут, где укрыться,
а лошадь - не может,
ну и когда было туго весной
с продовольствием,
лошадь сама пищевым становилась
довольствием...
Я бы давно уже -
будь моя воля! - на площади
соорудил бы заслуженный
памятник лошади.
Трусость
Немцы встали в атаку…
Он не выдержал - и побежал.
- Стой, зараза! - сержант закричал,
Угрожающе клацнув затвором,
и винтовку к плечу приподнял.
- Стой, кому говорю?! -
Без разбора
трус,
охваченный страхом,
скакал,
и оборванный хлястик шинели
словно заячий хвост трепетал.
- Ах, дурак! Ах, дурак в самом деле…-
помкомвзвода чуть слышно сказал
и, привычно поставив прицел,
взял на мушку мелькавшую цель.
Хлопнул выстрел - бежавший упал.
Немцы были уже в ста шагах…
Сидел он бледный в водосточной яме.
За воротник катился крупный пот.
И грязными дрожащими руками
он зажимал простреленный живот.
Мы кое-как его перевязали...
Но вот, когда собрались уносить,
он, поглядев запавшими глазами,
вдруг попросил, чтоб дали покурить.
Под пеплом тлел огонь нежаркий,
дым отливал свинцовой синевой, -
курил солдат последнюю цигарку,
и пальцы не дрожали у него.
Мы хотели его отнести в медсанвзвод.
Но сержант постоял, поскрипел сапогами:
- Все равно он, ребята, дорогой помрет.
Вы не мучьте его и не мучайтесь сами...-
И ушел на капэ - узнавать про обед.
Умиравший хрипел. И белки его глаз
были налиты мутной, густеющей кровью.
Он не видел уже ни сержанта, ни нас:
смерть склонилась сестрой у его изголовья.
Мы сидели - и молча курили махорку.
А потом мы расширили старый окоп,
разбросали по дну его хвороста связку,
и зарыли бойца, глубоко-глубоко,
и на холм положили пробитую каску.
Возвратился сержант - с котелками и хлебом.
Они
Мы еле-еле их сдержали…
Те, что неслися впереди,
шагов шести не добежали
и перед бруствером упали
с кровавой кашей на груди.
А двое все-таки вскочили
в траншею на виду у всех.
И, прежде чем мы их скосили,
они троих у нас убили,
но руки не подняли вверх.
Мы их в воронку сволокли.
И молвил Витька Еремеев:
- А все же, как там ни пыли,
Чего уж там ни говори,
а воевать они - умеют,
гады!...
✱ ✱ ✱
Нет, я иду совсем не по Таганке -
иду по огневому рубежу.
Я - как солдат с винтовкой против танка:
погибну, но его не задержу.
И над моим разрушенным окопом,
меня уже нисколько не страшась,
танк прогрохочет бешеным галопом
и вдавит труп мой гусеницей в грязь.
И гул его и выстрелы неслышно
Заглохнут вскоре где-то вдалеке…
Ну что же, встретим, если так уж вышло,
и танк с одной винтовкою в руке.
Штыковой бой
(Триптих)
Мужи зрелые мы.
В свалке судеб
Нам по плечу борьба.
Алкей
1
Команды в этом гаме не слыхать
но видишь краем глаза, как помвзвода
натренированно бросает через бруствер
своё сухое жилистое тело
и хищно изогнувшись, берёт винтовку:
"В штыки!..."
Он не бежит и не кричит "ура"
и лозунгов, оборотясь, не произносит:
он - бережёт дыхание;
шагает голенасто, петляя на ходу,
чтоб сбить с прицела фрицев, -
а мы ...
а мы, ну как во сне дурном,
бежим - и всё догнать его не можем ...
И как во сне дурном -
накатывает цепь серо-зелёных кителей и брюк
и топот кованых сапог;
белеют в руках гранаты
на длинных деревянных рукоятках:
сейчас противник даст гранатный залп!
Но помкомвзвода, упреждая,
зубами рвёт чеку у РГДэ,
потом ещё у трёх поочерёдно, -
и желтоватый дым гранатных взрывов
пятнает атакующую цепью
Он бьёт гранатами за сорок метров,
а мы - на двадцать, двадцать пять:
подводят нервы;
ведь что там не толкуй,
а воронёный блеск кинжального штыка,
примкнутого к немецким карабинам,
мутит сознание,
и кажется, что снится сон дурной ...
Но и во сне есть логика,
И мы, опережая помкомвзвода,
бросаемся в штыки -
забыв про смерть, забыв про жизнь.
Он же,
затвором лязгнув, вгоняет в ствол патрон
и, опустившись мягко на колено,
срезает ближнего зарвавшегося гада.
В таком бою и с двух шагов промажешь:
мешает напряжение,
но помкомвзвода рубит как на стрельбище:
обойма, пять патронов, - и пять трупов,
и очень редко мимо,
и то лишь потому, чтоб в этой свалке
не угодить в своих.
2
Когда фашисты подойдут так близко,
что их - огнём уже не положить,
тогда,
чтоб победить или погибнуть,
пехота
подымается
в штыки.
И сразу мир сужается до жути.
И не свернуть ни вправо и ни влево.
Навстречу - как по узенькой тропинке,
бежит твой враг, убийца и палач.
И ты следишь приковано за ним.
И, с каждым шагом ближе надвигаясь,
не сводишь взгляда с потного лица,
застывшего в свирепой неподвижности.
И он тебя приметил на ходу.
И взор его с твоим схлестнётся взором.
И с этого мгновенья - только смерть
способна вас избавить друг от друга.
А то, что прочитает враг
в ответ в твоём солдатском взгляде,
и предрешит исход единоборства
удар штыка - всего лишь точка
в конце психологической дуэли.
3
Я не помню, было ли мне страшно.
Только помню - после боя
пальцы плохо гнулись и дрожали,
и не мог свернуть я самокрутку.
Я не помню, было ли мне страшно.
Только помню - если был когда я
в этой жизни счастлив без остатка,
то тогда лишь - после штыковой,
когда пальцы так дрожали,
что не смог свернуть я самокрутку.
Женя Дягилев мне сунул в рот свою ...
Скрипун
«Скрипун», «скрипач», «ишак» -
так на фронте называли немецкие
шестиствольные миномёты; о них не
говорили «стреляют», говорили - «играют».
Истошным скрипом душу обжигая -
как будто кто гвоздём стекло скребёт, -
из-за высотки бешено играет
немецкий шестиствольный миномёт.
И продолженьем скрежета и визга,
дыхание не дав перевести,
уже над нами, где-то очень близко,
шестёрка
мин метровых
шелестит.
И вдавливает в землю и вжимает
стремительно
спускающийся
вой,
и взрывы - как чечётку выбивают
железом на булыжной мостовой.
… Когда промчится рядом электричка
и с ходу вой свирепо в уши бьёт,
я вздрагиваю: старая привычка -
проклятый шестиствольный миномёт!..
Обида
Его прислали в роту с пополненьем.
И он, безусый, щуплый паренёк,
разглядывал с наивным удивленьем
такой простой и страшный «передок».
Ему всё было очень интересно.
Он никогда ещё не воевал.
И он войну коварную, конечно,
по фильмам популярным представлял.
Он неплохим потом бы стал солдатом:
повоевал, обвык, заматерел …
Судьба ему - огнём из автомата -
совсем другой сготовила удел.
Он даже и не выстрелил ни разу,
не увидал противника вблизи
и после боя, потный и чумазый,
трофейными часами не форсил.
И помкомвзвода, водку разливая,
не произнёс весёлые слова:
- А новенький-то, бестия такая,
ну прямо как Суворов воевал!..
И кажется, никто и не запомнил
ни имя, ни фамилию его, -
лишь писарь ротный к вечеру заполнил
графу «убит» в записке строевой.
Лежал он - всем семи ветрам открытый,
блестела каска матово в кустах,
и на судьбу нелепую - обида
навек застыла в выцветших глазах.
Душа и тело
В бою теряешь ощущенье плоти.
Нет тела - есть одна душа,
припавшая к прикладу ППШа.
И как во сне - и жутко и легко,
и сизой гарью даль заволокло,
и ты скользишь в немыслимом полете…
И пробужденье - словно ото сна.
Стоишь - и смотришь обалдело.
И за собой приводит тишина
невзгоды перетруженного тела.
Душа опять соединилась с плотью.
И боль ее прокалывает поздняя.
И вялой струйкой кровь венозная
течет по раненому локтю.
✱ ✱ ✱
Нас поедом грызли фронтовые свирепые вши.
В землянках, где спали мы, гасли от вони коптилки.
Задыхались от трупных миазмов - врагов и своих.
И потом, тяжелым и острым, разило от нас.
Мы были солдатами, были на фронте - и поняли
из какого живого состава состоит человек.
Странно звучит этот старый цыганский романс
здесь, в блиндаже, под аккорды солдатской гитары:
«Нет, не хочу я любви мимолетной,
Пусть ее жаждет другой кто-нибудь.
Если полюбит, то скоро разлюбит,
Сердце остынет и скажет: «Забудь!»
Нет, не хочу я любви мимолетной.
Пусть ее жаждет другой кто-нибудь».
У бронебойщика хриплый, прокуренный голос.
Слиплись на лбу - из-под каски упавшие волосы.
Он и гитара прошли сто дорог фронтовых,
но не усохли душой в грохоте танковых траков:
«Нет, не хочу я любви мимолетной,
Пусть ее жаждет другой кто-нибудь.
Если полюбит, то скоро разлюбит,
Сердце остынет и скажет: «Забудь!»
Встретит он завтра в окопе, с ружьем бронебойным,
час свой последний... Но прежде - от выстрела резкого
танк запылает мазутно-оранжевым пламенем,
и бронебойщик, хмельной от восторга и ярости,
вдруг заорет, запоет во все горло с напарником:
«Нет, не хочу я любви мимолетной,
Пусть ее жаждет другой кто-нибудь!» -
строчки заветные песни своей лебединой...
Плохое настроение
Курим мы вонючий самосад -
«смерть немецким оккупантам» -
И ругаем всех подряд:
фрицев,
командиров,
интендантов…
Фрицев - ну понятно, почему,
Тут не подойдут слова из книжки:
принесло фашистскую чуму -
чтобы им ни дна и ни покрышки!
Командиров? ..
Как бы командир
на войне умно ни полководил,
а солдат считает - он один
сам себе в окопе маршал вроде.
Ну, а интендантов - для порядку:
ежели с утра их не отлаешь,
цельный день какую-то нехватку
на душе досадно ощущаешь,
Будто всё пошло вперекосяк.
и война чудной какой-то стала,
а помянешь этак их и так,
смотришь - и маленько полегчало.
Вы уж нас простите, интенданты!
Командиры тоже нас простят …
А вот этих музыкантов,
гитлеровских сытых поросят,
что играют вальсы на высотке
на губных гармошках в блиндажах, -
этим мы ужо повырвем глотки,
задрожит арийская душа,
когда,
вскинув на руку винтовки,
взяв на изготовку ППШа,
хлынем мы свирепо на высотку,
матерясь и тяжело дыша.
Там мы отыграемся вполне.
Душу отведут нормально хлопцы.
И ни у кого за этот гнев
нам простить прощенья
не придётся!
ПЕРЕД АТАКОЙ
Лейтенанту Валерию Дементьеву, саперу
Примкнуты штыки и подсумки расстегнуты.
Запалы в гранаты поввинчены намертво.
Присели солдаты в траншее на корточки
с чужими, застывшими, серыми лицами.
Ну что же, товарищ! - вперед так вперед.
Уйми суматошно стучащее сердце.
Пусть будет, что будет, - и стерва-война
промечет свой жребий: орел или решка...
Коростель
Спит на сырой земле усталая пехота, -
согнувшись, сунув руки в рукава.
Туман лежит в низинке над болотом,
и поседела от росы трава.
День снова будет солнечным и знойным.
Дрожащим маревом подёрнутся поля.
И в грохоте орудий дальнобойных
потонет мирный скрип коростеля.
И от жары, усталости и грохота
Пехоту так в окопах разморит,
что сразу даже помкомвзвода опытный
не разберёт - кто спит, а кто убит …
И ничего порой не оставалось,
как разрядить над ухом автомат:
чугунная, смертельная усталость
валила с ног измученных солдат.
На фронте было времени полно
копать, стрелять, швырнуть гранаты, драться,
но не хватало только на одно -
по-человечьи, вволю, отоспаться.
И потому бывалые солдаты
Смотрели на проблему эту:
- Коль повезёт, то выспимся в санбате;
Не повезёт - так, значит на том свете...
Спит мёртвым сном продрогшая пехота.
Покоем дышит бранная земля.
И в зарослях глухих чертополоха
такой домашний скрип коростеля.
Муравей
Здесь нет земли. Один металл.
Ползёшь - колени ноют от осколков.
Здесь столько раз огонь пробушевал,
мин и снарядов разорвалось столько,
что стало - как мёртвая планета,
где и узреть, кроме воронок, ничего,
где, кажется, и жизни вовсе нету,
где не учуешь стрёкота кузнечиков,
где в обожжённой взрывами траве
не путешествует по стебельку плутовка -
в пальтишке красном божия коровка, -
и только рыжий дошлый муравей,
неутомимостью похожий на солдата,
спешит по брустверу куда-то …
Баллада про окурок
Газует игрушечный «газик»
По ленте пустого шоссе,
А «мессер» пикирует сзади,
Подобный гремящей осе;
И как рубанёт по машине
Из двух пулемётов - ого! -
И в клочья клеёнка кабины,
И вдрызг ветровое стекло.
Шофёр - ну рискованный парень! -
Машину ведёт словно зверь:
Одною рукой - за баранку,
Другой - за открытую дверь;
И, высунув голову, крутит
Башкою, следя за пике, -
И толстый холодный окурок
Приклеился к нижней губе.
Коса напоролась на камень!
И, выжав вдали разворот,
Стервятник, чернея крестами,
Навстречу машине идёт;
И выпустив очередь, снова
Заходит в крутое пике, -
Висит и висит у шофёра
Окурок на нижней губе.
И вот, расстреляв все патроны,
В последний, прощальный заход
Пилот вдоль кювета наклонно
Повёл, сбросив газ, самолёт,
И, выйдя из автомашины,
Водитель увидел вблизи,
Как лётчик, ссутуливши спину,
Ему кулаком погрозил.
Но есть же такие ребята!
И тут не промазал шофёр -
И жестом лихого солдата
Закончил лихой разговор.
Потом постоял и послушал,
Пока гул вдали не заглох, -
Достал из кармана «катюшу» -
Погасший окурок зажёг.
Под пулеметным огнем
Старшему лейтенанту В.Шорору
Из черной щели амбразуры -
Из перекошенного рта -
по нас,
по полю,
по лазури -
“та-та-та-та”, “та-та-та-та”.
А мы лежим и хрипло дышим,
уткнувшись касками в траву,
и пули - спинами мы слышим -
у ног тугую землю рвут.
И страшно даже шевельнуться
под этим стелющим огнем…
А поле - гладкое как блюдце,
и мы - как голые на нем.
Он самодур
Он самодур.
Врождённый самодур и тупица.
Но у него на погонах звездочка,
и мы - хотим, не хотим -
должны ему подчиняться.
Он уже загубил половину роты
и собирается погубить другую.
Но и мы кое-чему научились,
и когда он бросает нас
на проволочные заграждения,-
мы расползаемся по воронкам
и ждем, когда ему надоест
надрывать горло из окопа,
он вылезет и начнет поднимать нас
под огонь немецких пулеметов.
Однажды он и сам угодит под него.
Слёзы
Плыла тишина по стерне -
над полем, разрывами взрытым,
и медленно падавший снег
ложился на лица убитых.
Они были теплы.
И снег на щеках у них таял,
И словно бы слёзы текли,
полоски следов оставляя.
Текли, как у малых ребят,
Прозрачные, капля за каплей …
Не плакал при жизни солдат,
а вот после смерти -
заплакал.
Окопный концерт
Днём мы воюем, ночью - лаемся.
От них до нас - ну, метров шестьдесят.
И слышно, когда за день наломаемся,
как немцы по траншее колготят.
Поужинаем. Выпьем по сто граммов.
Покурим… И в какой-нибудь момент
по фронтовой проверенной программе
окопный начинается концерт.
- Эй, вы! - шумим. - Ну как дела в Берлине?
Адольф не сдох?.. Пусть помнит, сукин сын,
что мы его повесим на осине,
когда возьмём проклятый ваш Берлин!..
Заводим фрицев с полуоборота.
И те, чтобы престиж не утерять,
нам начинают с интересом что-то
про Сталина и Жукова кричать.
- Не фронт, а коммунальная квартира, -
Ворчит сержант. - Неужто невдомёк,
что гансы могут - даже очень мило -
к нам, падлы, подобраться под шумок?..
И, видя, что слова не помогают,
из станкача по немцам даст сполна!
Концерт окончен.
Публика - стихает.
И снова продолжается война…
В ОКРУЖЕНИИ
Одиночества я не боюсь.
Я боюсь без патронов остаться.
Без патронов - какой я солдат?
А с патронами можно прорваться.
Потрясу у погибших подсумки.
Да и карманы проверю.
И пойду, наподобие зверя,
прямиком - по лесам и болотам.
Буду я, сам за себя отвечая,
под бурчание в брюхе брести, -
и пускай, кому жизнь надоела,
повстречается мне на пути!..
ХАРЧИ
(Диптих)
1
Ну, делать нечего!.. Пора сдаваться в плен.
Их трое. На повозке. Пожилые.
Везут чего-то. И кажись - харчи!
И выхожу один я на просёлок.
Винтовки нет, подсумка тоже, распояской:
архаровец, алкаш, бродяга!
- Зольдатен, гутен таг! Них шисен! Их сдаюсь!.. -
И лапы задираю - и стою
распятый, как Иисус Христос.
Подходят. Карабины - за спиной.
- О, рус, плиен? Дас ист зер гут! -
И хлопают, улыбаясь по плечам, -
ну, суки, словно в гости препожаловали!
А я медаль снимаю с гимнастёрки:
- Прошу вас! Битте! Маин сувенир, -
и отвожу за спину руки - как положено.
Я знаю, на какой крючок ловлю я рыбу:
медали их - медяшки против наших!
И - головы впритык - разглядывают «За отвагу».
Я вынимаю финский нож из ножен,
надетых сзади на брючной ремень,
и трижды атакую - стремительно, безжалостно!..
2
Месяц назад - я подался в деревню.
Вышел старик:
- Ну чего тебе тут?..
А-а отощал. Побираешься, значит!
Выдали нас на съедение германцу -
ну и теперича мы и харчуй?..
Нет, не получится, мать твою душу!
Может, и сын мой таскается с вами,
встренешь - скажи, не пущу на порог…
Хо! - и медальку, гляди, нацепил.
Понаделали вам всяких медалев,
а воевать - ни хрена не умеете…
Вот тебе парень махры на дорогу,
харч - у германца… Бывай! -
Ну и дверями он так саданул,
что на печи ребятишки заплакали.
На другой день в первый раз я и пошёл харчиться к фрицам.
Ничего! - только хлеб пресноватый да в консервах много перцу.
ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА
Стоял - ссутулившись горбато.
Молчал - к груди прижав гранату…
И навсегда избавился от плена:
исчез в дыму по самые колена.
И в сторону упали две ноги -
как два полена.
ЛЕЙТЕНАНТ
Мы - драпали. А сзади лейтенант
бежал и плакал от бессилия и гнева.
И оловянным пугачом наган
семь раз отхлопал в сумрачное небо.
А после, как сгустилась темнота
и взвод оплошность смелостью исправил,
спросили мы: - Товарищ лейтенант,
а почему по нам вы не стреляли?..
Он помолчал, ссутулившись устало.
И, словно память трудную листая,
ответил нам не по уставу:
- Простите, но в своих я не стреляю.
Его убило пару дней спустя.
ХУТОР
Старшему сержанту Вячеславу Кондратьеву
Этот хутор никто не приказывал брать.
Но тогда бы пришлось на снегу ночевать.
А морозы в ту зиму такие стояли -
воробьи в деревнях на лету замерзали.
И поскольку своя - не чужая забота,
поднялась, как один, вся стрелковая рота.
И потом ночевали… половина - на хуторе,
а другая - снегами навеки окутана.
✱ ✱ ✱
Портится февральская погода,
Вечер опускается над степью.
Сиротеет на снегу пехота
поредевшей, выкошенной цепью.
Колкая, звенящая позёмка
заметает, как кладёт заплаты,
минные остывшие воронки,
трупы в маскировочных халатах,
рукавицы, брошенные в спешке,
россыпи отстрелянных патронов,
лужи крови в ледяных узорах -
и живых бойцов, окоченевших
в снежных осыпающихся норах.
Тишина…
Лишь простучит сторожко
фрицевский дежурный пулемёт -
зыбкой, исчезающей дорожкой
снежные и взметёт.
До костей пронизывает стужа
и тоска - до самых до костей.
Хоть бы принесли скорее ужин -
стало бы маленько потеплей…
А позёмка снег гонит, вертит,
И могилой кажется нора:
ведь лежать нам тут
до самой смерти,
или -
что страшнее -
до утра.
Там, по ссылке, еще много
Еще здесь много стихов Юрия Белаша
Да, это не лирические кружева "розы - морозы", "любовь - морковь", это переложенный на язык поэзии, причем на шершавый, корявый, жесткий язык, жуткий опыт того, кто "был сержантом в стрелковом батальоне, в нескольких сотнях метров от врагов и в нескольких сантиметрах от смерти". Не для слабонервных снобов и пижонов. Но без такого сурового, страшного, нечеловеческого опыта не бывает победы. Как без Юрия Белаша не было бы Победы.
Светлая память воину Георгию! Царствие ему Небесное.
Мой поэторий