Ольга Берггольц: Блокадные дневники (продолжение)
Продолжение блокадных дневников Ольги Берггольц..
( Начало - здесь)
22/IX-41. Три месяца войны.
Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева... А население? А я?
(Я решила записывать все очень безжалостно.)
Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой, Боже мой! Я не знаю,чего во мне больше - ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, - к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев - наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди!.. А может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники (но почему, почему, черт возьми, не хватает, должно было хватать, мы жертвовали во имя ее всем!), не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, везде Шумиловы и махановы - кадры помета 37 - 38 года, - но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться.
О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила, как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни - настоящая и официальная.
Где-то глухо идет артиллерийская стрельба.
Восемнадцатого город обстреливал немец из дальнобойных орудий, было много жертв и разрушений в центре города, невдалеке от нашего дома. Об этом молчат, об этом не пишут, об этом («образно») даже мне не разрешили сказать в стихах. Зачем мы лжем даже перед гибелью? О Ленинграде вообще пишут и вещают только системой фраз - «на подступах идут бои» и т. п. Девятнадцатого в 15.40 была самая сильная за это время бомбежка города.
Я была в ТАССе, а в соседний дом ляпнулась крупная бомба. Стекла в нашей комнате вылетели, густые зелено-желтые клубы дыма повалили в дыру. Я не очень испугалась - во-первых, сидя в этой комнате, была убеждена, что в меня не попадет, а во-вторых, не успела испугаться, она ляпнулась очень неожиданно. Самое ужасное в страхе и, очевидно, в смерти - ее ожидание, А если неожиданно - то пожалуйста. Но я до сих пор не могу прийти в себя от удивления - почему именно бомба упала в дом 12, а не в дом 14, где была я? Значит, все-таки она может попасть и в меня? Значит, мне нигде, нигде нет спасения? Очень странно! Но я не могу ничего написать о своем состоянии, потому что оно с сильной примесью: четвертый день грипп, ломает и лихорадит, да еще очень сильно ударилась головой в бомбоубежище - так что трудно определить, что в самочувствии от войны, а что от вневременной настоящей жизни - болезни.
Наверно, если б не было этой головной боли, страшнейшего кашля и насморка, настроение было бы хорошее - насколько оно может быть хорошим в окруженном, осажденном, бомбардируемом и обстреливаемом городе.
Надо оторваться от земли, отрешиться от нее, понять, что тебя преследуют и все равно настигнут, и пока жить каждым часом, каждой минутой, вопреки всему извлекая из нее драгоценности жизни. Но это противоречит одно другому - отрешиться и извлекать. (Девятый час, скоро, видимо, будет регулярный немецкий налет с бомбами... Я на Троицкой, пойду вниз, если б не лихорадило, я бы, наверное, не боялась и не тряслась - все равно уж.)
Если б не было гриппа и если б я была уверена, что Юра влюблен и желает меня, у меня б было приличное состояние. Он странно держится со мною, я не могу понять - есть ли это полное равнодушие или наоборот. Дает массу заказов, я справляюсь с ними прилично (потом обычно портит цензура), разговаривает в шутливо-приказном тоне (сегодня что-то особо, даже с оттенком некоторой злобы - подлинной), очень внимателен - и эта-то внимательность меня особо угнетает. Видимо, я совершенно не нравлюсь ему как баба, а мое отношение к себе он заметил и считает, что может распоряжаться мною, что ему достаточно протянуть руку, чтоб я рассыпалась мелким бесом. Так, между прочим, и будет, но я хочу показать ему, что я от него не завишу, что мне, вообще говоря, наплевать на него в специфическом отношении... А зачем все это? Но я робею перед ним, сегодня пикировала очень неудачно. Я бываю такая страшненькая, жалкая. М[ежду], п[рочим], когда с 15 до 16 я дежурила в Союзе, он пришел туда, сидел очень долго со мною, мы хорошо разговаривали, однажды он поцеловал мне руку - за стишок; раза два попробовал прикоснуться головой к плечу, я сделала непроницаемое лицо и вид, что не заметила, - от счастливого страха. Дура. Мы сидели, не затемняясь, в сумерках, небо было розовое от далеких пожаров - Ленинград еженощно в кольце пожаров.
Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: «героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или нескоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде». (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это - самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во все это, будь она трижды проклята, трижды, трижды!! Времени не стало - оно рассчитывается на часы и минуты. Я хочу, хочу еще иметь минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтоб он сказал, что любит меня, жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете, что он действительно (а не в шутку, как сейчас) ревнует к Верховскому и прочим.
А завтра детей закуют... О, как мало осталось
Ей дела на свете: еще с мужиком пошутить,
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На белую грудь равнодушной рукой положить...
(Ахматова)
А может, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда, думаю о красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я - живу. И разве я не в равном со всеми положении, разве не упала рядом со мной бомба, разве не влетел осколок в соседнее окно, в комнату, где я сидела? (Артиллерийская стрельба стала слышнее - немцы или мы по ним? Ведь ими взято Детское, Павловск. Господи, они же вот-вот могут начать штурм города - и с воздуха, и с суши, уцелеть можно будет чудом, - и вот рухнет все с Юрой... Тем более что его и Яшку все время хотят взять «политбойцами».) Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю все, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут, - мне рассказывали об этом сегодня, это «Письмо Мусе». Да. Оно хорошее. Не хуже было и «Обращение» - да изуродовала цензура и милые мои редакторы. Как бы написать еще что-либо подобное «Машеньке - письма Мусе»? (Ого, артиллерийские снаряды хлопают совсем близко от нас - это немцы. Интересно, откуда бьют? Может ли хлопнуть по дому? Но я их боюсь почему-то меньше... Черт возьми, ну совершенно рядом лопаются, наверное, на Нахимсона.) Пойти вниз, Колька на дежурстве у подъезда, узнать - как и что, и, м.б-, сходить в райком за материалом для Юры или самой придумать этого отрядника, ведь придумаю все равно лучше? (Сволочи, они и в темноте бьют, значит, даже не боятся обнаружить свои точки? Господи, да как часто пошли! Ежеминутно! Схожу вниз, узнаю.)
А завтра детей закуют...
Жить! Жить!
24/IX-41
Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский писатель» в Гостиный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич - я ее очень давно знаю, она была славная, приветливая женщина. Еще недавно я была у них за деньгами и говорила с нею. Семенов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. А одна машинистка, ушедшая в убежище, уцелела. Значит, надо ходить в убежище! Надо бежать туда, сломя голову, как только завоет сирена... Надо спасаться, спасаться, спастись можно... О, как гнусно! Мне жаль тех людей, а первая мысль - о себе, так сказать, извлечь уроки. Я знаю - так у всех. И верно А.О. говорила: ахнет бомба, и первая, подленькая мысль - не в меня!.. Оправдание лишь в том, что еще не в меня! А работники «Сов. писателя» - это уже мы. Это мы гибнем от бомбы. Это давно знакомые люди, конкретно введенные в сознание. Гибнет вместе с ними что-то и в тебе - хотя я всегда терпеть не могла Семенова, впрочем, он жив (но поражен). Значит, меня все-таки убьют? (Вот опять гремит артиллерия.) Не помню, записывала ли, что при ужасном отступлении из Таллинна погибли Филипп Князев, Цехновицер, Лозин, Инге, Гейзель - все наши. Непонятно.
Все, как зачарованные, говорят о бомбах, бомбах и бомбах. Ночью сегодня опять были бомбы - на Лиговке и углу Невского и Лиговки - рядом с Пренделями. Говорят, что вчера (вчера было 11 тревог) фашисты били с воздуха Кронштадт - значит, пытались уничтожить флот. (Интересно, эта артстрельба - по нам или наша?) Ой, какой у меня кашель, убийственный. Это-то еще к чему?
Я трушу, я боюсь, мучительно боюсь - это очевидно. Как и 99, если не 100 % живущих. Вернее, не смерти боюсь, а жить хочу так, как жила, в основном. Как это так: ворвутся немцы или засыплют нас бомбами- и вдруг Коля будет лежать с выбитым чудесным, прекрасным его глазом (мне почему-то гибель его рисуется именно так, что глаз у него будет при этом выбит), и Юра будет убит с залитым кровью лицом, и Яшка ляжет где-нибудь за камушком, маленький и покорный...
(А артиллерия-то не наша и бьет где-то поблизости.)
Я совершенно не боюсь; в наш дом не попадет, мы за домами, вот на Троицкой - другое дело, там под самой крышей, дом жилой, если туда упадет даже не очень большой фугас - вся середка его рухнет «по винтику, по кирпичику». О, зачем мы сбежали оттуда! Ведь живут же там люди, а я еще политорганизатор дома. Но ведь это липа, липа, это райкомы придумали от беспомощности своей, да и некогда мне заниматься этой липой. Какие тут политоргани-заторы помогут, когда государство бессильно?! Конечно, надо брать судьбу в свои руки - а руки связаны мертвой системой управдомов, РЖУ, штабов, райкомов и т. д. Бюрократическая железная система сковывает все...
Нет, все же попробую хоть что-нибудь сегодня сделать для дома - подать еще раз всякие докладные и т. д.
Кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда... о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем... Мне не дали даже никакого материала, что я буду писать? Их на декламации не надуешь. Я хотела бы написать от сердца, от себя, - даже пусть подписное бы шло. (Тревога, идти в убежище или нет? Подожду, пока не будут палить... О-о!..) Хотелось бы объясниться с нею, сказать: «Ну, что ж ты, спаси нас, помоги нам, мы почти на краю гибели»... Но ушла в убежище.
Ночью, 3 часа.
Вот когда умирала Ирочка, я тоже все время писала и писала дневник. Видимо, это помогает не думать о главном.
День прошел сегодня бесплодно, но так как времени нет, то все равно. Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголке прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящих друг на друга, - матрасишко, на краю - закутанная в платки, с ввалившимися глазами - Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии - неповторимый, большой сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова...
А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки.
Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. Плакала о Тане Гуревич (Таню все сегодня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную...» О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы - «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств - сами, сами будем жить»... А говорят, что бомбу на Таню сбросила 16-летняя летчица. О, ужас! (Самолет будто потом сбили и нашли ее там, - м.б., конечно, фольклор.) О, ужас! О, какие мы люди несчастные, куда мы зашли, в какой дикий тупик и бред. О, какое бессилие и ужас. Ничего, ничего не могу. Надо было бы самой покончить с собой - это самое честное. Я уже столько налгала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить. А хотела-то только лучшего. Но закричать «братайтесь» - невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?
Все эти учения - бред, они несут только кровь, кровь и кровь.
О, мир теперь не вылезет из этой кровавой каши долго, долго, долго, - уж теперь-то я это вижу... Кончится одно - начнется другое. И все будет кровь.
Надо выжить и написать обо всем этом книгу... (Только что припадок у Кольки - зажимала ему рот, чтоб не напугал ребят за стенкой, дрался страшно.)
Зачем мы с ним живем, Господи, зачем мы живем, разве мы мало еще настрадались, ничего же лучшего уже не будет, зачем мы живем?
Очень устала душевно за сегодня. Еще эти разговоры с Олесовым (он чудом спасся, убегая из Таллинна, на их пароходишко было 38 воздушных налетов с бомбежкой) - он бормотал о самоубийстве, его приятель, бормотавший о том, что «мы 20 лет ошибались и теперь расплачиваемся», несчастное лицо А. А. Смирнова, сказавшего просто: «Да, я очень страдаю»...
Чем же я могу помочь им всем? Если б мне еще дали возможность говорить то, что я хочу сказать (опять припадки у Кольки), в том же нашем плане, - еще туда-сюда... А мне не дадут даже прочесть письмо маме так, как оно есть, - уж я знаю.
Нет, нет... Надо что-то придумать. Надо перестать писать (лгать, потому что все, что за войну, - ложь)... Надо пойти в госпиталь. Помочь солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афишки. Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах - вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей. Вожди вообще никогда не думают о людях...
Для Европы буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо близкое к правде.
Я дура - просидела почти всю ночь, а ночь была спокойной, а с утра - тревоги, страхи, боль...
28/IX-41
Сегодня в 8 ч. вечера, когда я сидела в газоубежище Дома радио, в соседний дом упали бомбы и рядом тоже нападало. Дом радио № 2, а попало в дом № 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели, и говорят, что я тоже стала совсем голубая. Но, по-моему, я не испугалась. Да и некогда было испугаться - не слышно было, как они свистели, - предварительного страха, значит, не было. Так лучше, когда перед этим не пугают, и хорошо бы еще, чтоб убило сразу, чтоб не задыхаться под камнями, чтоб не проломило носа, как Семенову.
Я уже не знаю теперь, когда я боюсь, когда нет. Вчера, когда была в «слезе» и было четыре тревоги, я очень боялась, руки были ледяные, и - конечно, над нами - вились немцы, и мне моментами хотелось крикнуть: «Да ну же, бросай, скорей бросай, я не могу больше ждать»...
7/II-42
...А между тем, может быть, меня ждет новое горе. Собирался часам к 7 прийти батька, но перед этим должен был зайти в НКВД насчет паспорта - и вот уже скоро 10, а его все нет. Умер .по дороге? Задержали в НКВД? Одиннадцатый час, а его нет. М.6., сидит там и ждет, когда выправят паспорт? Может, у меня в Ленинграде уже нет папы?
Народ умирает страшно. Умерли Левка Цырлин, Аксенов, Гофман - а на улицах возят уже не гробы, а просто зашитых в одеяло покойников. Возят по двое сразу на одних санях. Яшка заботится об отправке - спасении нашего оркестра, 250 чел. Диктовал: «Первая скрипка умерла, фагот при смерти, лучший ударник умер».
Кругом говорят о смертях и покойниках.
Неужели мы выживем - вот я, Юра, Яша, папа?
Пол-одиннадцатого - папы нет. О, Господи...
Папа так и не пришел. Просто не знаю, в чем дело. Он очень хотел прийти - я приготовила ему 2 плитки столярного клея, кулек месятки, бутылку политуры, даже настоящего мяса. Что с папой?
Мое омертвление дошло до того, что я даже смеюсь с ребятами...
8/II-42
Папу держали вчера в НКВД до 12 ч., а потом он просто не попал к нам потому, что дверь в Д[ом] р[адио] была уже закрыта. Его, кажется, высылают все-таки. В чем дело, он не объяснил, но говорит, что какие-то новые мотивы, и просил «приготовить рюкзачок». Расстроен страшно. Должен завтра прийти. В чем дело - ума не приложу, чувствую только, что какая-то очередная подлая и бессмысленная обида. В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит и без того измученных и несчастных людей.
Я ходила к отцу несколько дней назад...
Он организовал лазарет для дистрофиков - изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет - уже старый, но бодрый, деятельный, веселый.
Естественно, мужественно, без подчеркивания своего героизма, человек выдержал 5 месяцев дикой блокады, лечил людей и пекся о них неустанно, несмотря на горчайшую обиду, нанесенную ему властью в октябре, когда его ни за что собирались выслать, жил общей жизнью с народом - сам народ и костяк жизни города - и вот!
Что-то все-таки откопали и допекают человека.
Власть в руках у обидчиков. Как они распоясались во время войны и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской всенародной человеческой трагедии!
Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов - «и мы пахали!» О мразь, мразь!
С утра настроение было рабочим, хотелось писать о Хамармере (комиссар одной из армий,оборонявших город), а сейчас из-за отца вновь все кажется ложью и фальшью.
К чему все наши усилия, если остается возможность терзать честного человека без всяких оснований?
Ни к чему! Ни к чему.
«Друг мой, ты честен: покинь этот край!»
Примечание сестры О. Берггольц:
"Едва ли возможно, чтоб папа так долго не рассказывал Ольге о сути дела (хотя мы так боялись ей навредить, зная ее характер! Ведь отказ «помочь» НКВД, отказ шпионить и доносить был криминалом. Похоже, что они искали для заявлений другую «причину» - в том, например, чем его пугали: вот ходил к знакомому священнику в карты играть... А тот, бедный, очевидно, уже был арестован (это был отец Вячеслав, отец нашего учителя математики Дмитрия Вячеславовича. Мы его любили, хотя и прозвали Дмитрий Поп).
Когда я приехала в Ленинград по Дороге жизни (25/II-42 г.), папа сразу рассказал мне все дословно.
Примерно с конца сентября все виды связи с Ленинградом были прерваны. Печать и радио преднамеренно не сообщали, что Ленинград вымирает от голода. Около 20 февраля прорвался самолетом из Ленинграда в Москву военкор Василий Ардаматский. Он привез мне твои письма и рассказал, что умер Николай, а ты почти безнадежна. Я кинулась к Фадееву. Оказалось, что даже он не знал истинного положения Ленинграда. Тогда очень быстро была организована машина с подарками ленинградцам, а я оказалась готовой ехать в блокаду и потому была туда командирована.
Ольга записала: «25/11-42 г. ...Утром, когда уходили, на район был дикий артналет, и снаряды свистели над нашим домом без секундной паузы, как в зоомагзине птицы. Нас не убило, хотя снаряды ложились везде, близко.
А когда пришли в Дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.
Она приехала к нам на грузовике с продовольствием, с посылками для Союза писателей, мне тоже большая посылка.
Она ехала кружным путем, одна с водителем, вооруженная пистолетом каким-то, в штанах, в полушубке, красивая, отважная, по-бабьи очаровательно-суетная. Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, только что освобожденных от немцев, забирала по дороге письма и посылки для ленинградцев.
Горжусь ею и изумляюсь ей - вздорной моей, сварливой Муське - до немоты, до слез, до зависти.
Хочет как можно скорее выволочь меня отсюда - и так напирает, что я вроде как способность к самостоятельным действиям утратила и такой жалкой себе кажусь!
Она привезла много отличных вещей.
Кое-что возьмем обратно в Москву - там тоже плохо, порядочно отдаем папе, хочу хороший подарок сделать Марусе Машковой».
Я предложила папе: дай вывезу тебя вместе с другими «эваками»! Куда там: «Отсюда только на фронт». Ох, наивные мы были люди!
Ольгу я отправила самолетом в состоянии тяжкой дистрофии. О высылке отца этапом мы узнали в Москве.
В дневнике Ольги от 13/IV-42 г. есть такая запись:
«От отца с 3/IV нет вестей. Может быть, его уже нет в живых, погиб в пути. ...А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать» всего о собственном отце - они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу!
Воюю за то, чтобы стереть с лица советской земли их мерзкий антинародный переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова - во сколько раз больше и лучше наработали бы мы при полном доверии к нам? Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб чистый советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое искусство. Ну, а если всего этого не будет... посмотрим!»
Едва живого отца привезли в Минусинский край...
Сейчас, читая о сталинской политике заложников, я думаю: крестный путь отца был организован для острастки Ольги, чтобы держать ее в покорности. Но тогда нам это и в голову не приходило; боролись за него, как все - с явлениями «общего порядка», а Ольга по-прежнему оставалась самой собой, и невидимый ГУЛАГ - тоже сам собой: то есть убийцей - «не мытьем, так катаньем».
Долгие папины скитания прервались одной знаменательной встречей... На одном из спектаклей в театре Акимова Ольга увидела сидящего почти рядом своего старшего следователя (палача!) А. Н. Фалина. Он был уже главным прокурором города.
«Вы узнаете меня, Ольга Федоровна?» - осклабился он.
«Узнаю». («Меня всю охватила дрожь...» - рассказывала мне она.)
«Чем могу быть вам полезен?»
И у нее хватило сил не плюнуть ему в глаза, а просить об отце.
«Конечно, конечно». (Мол, только-то и всего.)
Через два дня по телефону уже жестко: «Это трудно. Дело в том, что дела - нет!..» А откуда бы ему быть? Однако «индульгенция», как говорил папа, была получена.
Приехал он в Ленинград тяжелобольным. Деревянный дом, где он жил, был разобран на дрова, имущество все пропало. Меньше чем через год - 7/XI-48 г., он умер.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Так же по теме:
▪ Блокада Ленинграда в документах из рассекреченных архивов
▪ "Осада человека" - блокадные записки Ольги Фрейденберг
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
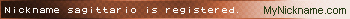

( Начало - здесь)
22/IX-41. Три месяца войны.
Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева... А население? А я?
(Я решила записывать все очень безжалостно.)
Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой, Боже мой! Я не знаю,чего во мне больше - ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, - к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев - наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди!.. А может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники (но почему, почему, черт возьми, не хватает, должно было хватать, мы жертвовали во имя ее всем!), не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, везде Шумиловы и махановы - кадры помета 37 - 38 года, - но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться.
О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила, как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни - настоящая и официальная.
Где-то глухо идет артиллерийская стрельба.
Восемнадцатого город обстреливал немец из дальнобойных орудий, было много жертв и разрушений в центре города, невдалеке от нашего дома. Об этом молчат, об этом не пишут, об этом («образно») даже мне не разрешили сказать в стихах. Зачем мы лжем даже перед гибелью? О Ленинграде вообще пишут и вещают только системой фраз - «на подступах идут бои» и т. п. Девятнадцатого в 15.40 была самая сильная за это время бомбежка города.
Я была в ТАССе, а в соседний дом ляпнулась крупная бомба. Стекла в нашей комнате вылетели, густые зелено-желтые клубы дыма повалили в дыру. Я не очень испугалась - во-первых, сидя в этой комнате, была убеждена, что в меня не попадет, а во-вторых, не успела испугаться, она ляпнулась очень неожиданно. Самое ужасное в страхе и, очевидно, в смерти - ее ожидание, А если неожиданно - то пожалуйста. Но я до сих пор не могу прийти в себя от удивления - почему именно бомба упала в дом 12, а не в дом 14, где была я? Значит, все-таки она может попасть и в меня? Значит, мне нигде, нигде нет спасения? Очень странно! Но я не могу ничего написать о своем состоянии, потому что оно с сильной примесью: четвертый день грипп, ломает и лихорадит, да еще очень сильно ударилась головой в бомбоубежище - так что трудно определить, что в самочувствии от войны, а что от вневременной настоящей жизни - болезни.
Наверно, если б не было этой головной боли, страшнейшего кашля и насморка, настроение было бы хорошее - насколько оно может быть хорошим в окруженном, осажденном, бомбардируемом и обстреливаемом городе.
Надо оторваться от земли, отрешиться от нее, понять, что тебя преследуют и все равно настигнут, и пока жить каждым часом, каждой минутой, вопреки всему извлекая из нее драгоценности жизни. Но это противоречит одно другому - отрешиться и извлекать. (Девятый час, скоро, видимо, будет регулярный немецкий налет с бомбами... Я на Троицкой, пойду вниз, если б не лихорадило, я бы, наверное, не боялась и не тряслась - все равно уж.)
Если б не было гриппа и если б я была уверена, что Юра влюблен и желает меня, у меня б было приличное состояние. Он странно держится со мною, я не могу понять - есть ли это полное равнодушие или наоборот. Дает массу заказов, я справляюсь с ними прилично (потом обычно портит цензура), разговаривает в шутливо-приказном тоне (сегодня что-то особо, даже с оттенком некоторой злобы - подлинной), очень внимателен - и эта-то внимательность меня особо угнетает. Видимо, я совершенно не нравлюсь ему как баба, а мое отношение к себе он заметил и считает, что может распоряжаться мною, что ему достаточно протянуть руку, чтоб я рассыпалась мелким бесом. Так, между прочим, и будет, но я хочу показать ему, что я от него не завишу, что мне, вообще говоря, наплевать на него в специфическом отношении... А зачем все это? Но я робею перед ним, сегодня пикировала очень неудачно. Я бываю такая страшненькая, жалкая. М[ежду], п[рочим], когда с 15 до 16 я дежурила в Союзе, он пришел туда, сидел очень долго со мною, мы хорошо разговаривали, однажды он поцеловал мне руку - за стишок; раза два попробовал прикоснуться головой к плечу, я сделала непроницаемое лицо и вид, что не заметила, - от счастливого страха. Дура. Мы сидели, не затемняясь, в сумерках, небо было розовое от далеких пожаров - Ленинград еженощно в кольце пожаров.
Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: «героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или нескоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде». (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это - самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во все это, будь она трижды проклята, трижды, трижды!! Времени не стало - оно рассчитывается на часы и минуты. Я хочу, хочу еще иметь минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтоб он сказал, что любит меня, жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете, что он действительно (а не в шутку, как сейчас) ревнует к Верховскому и прочим.
А завтра детей закуют... О, как мало осталось
Ей дела на свете: еще с мужиком пошутить,
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На белую грудь равнодушной рукой положить...
(Ахматова)
А может, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда, думаю о красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я - живу. И разве я не в равном со всеми положении, разве не упала рядом со мной бомба, разве не влетел осколок в соседнее окно, в комнату, где я сидела? (Артиллерийская стрельба стала слышнее - немцы или мы по ним? Ведь ими взято Детское, Павловск. Господи, они же вот-вот могут начать штурм города - и с воздуха, и с суши, уцелеть можно будет чудом, - и вот рухнет все с Юрой... Тем более что его и Яшку все время хотят взять «политбойцами».) Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю все, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут, - мне рассказывали об этом сегодня, это «Письмо Мусе». Да. Оно хорошее. Не хуже было и «Обращение» - да изуродовала цензура и милые мои редакторы. Как бы написать еще что-либо подобное «Машеньке - письма Мусе»? (Ого, артиллерийские снаряды хлопают совсем близко от нас - это немцы. Интересно, откуда бьют? Может ли хлопнуть по дому? Но я их боюсь почему-то меньше... Черт возьми, ну совершенно рядом лопаются, наверное, на Нахимсона.) Пойти вниз, Колька на дежурстве у подъезда, узнать - как и что, и, м.б-, сходить в райком за материалом для Юры или самой придумать этого отрядника, ведь придумаю все равно лучше? (Сволочи, они и в темноте бьют, значит, даже не боятся обнаружить свои точки? Господи, да как часто пошли! Ежеминутно! Схожу вниз, узнаю.)
А завтра детей закуют...
Жить! Жить!
24/IX-41
Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский писатель» в Гостиный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич - я ее очень давно знаю, она была славная, приветливая женщина. Еще недавно я была у них за деньгами и говорила с нею. Семенов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. А одна машинистка, ушедшая в убежище, уцелела. Значит, надо ходить в убежище! Надо бежать туда, сломя голову, как только завоет сирена... Надо спасаться, спасаться, спастись можно... О, как гнусно! Мне жаль тех людей, а первая мысль - о себе, так сказать, извлечь уроки. Я знаю - так у всех. И верно А.О. говорила: ахнет бомба, и первая, подленькая мысль - не в меня!.. Оправдание лишь в том, что еще не в меня! А работники «Сов. писателя» - это уже мы. Это мы гибнем от бомбы. Это давно знакомые люди, конкретно введенные в сознание. Гибнет вместе с ними что-то и в тебе - хотя я всегда терпеть не могла Семенова, впрочем, он жив (но поражен). Значит, меня все-таки убьют? (Вот опять гремит артиллерия.) Не помню, записывала ли, что при ужасном отступлении из Таллинна погибли Филипп Князев, Цехновицер, Лозин, Инге, Гейзель - все наши. Непонятно.
Все, как зачарованные, говорят о бомбах, бомбах и бомбах. Ночью сегодня опять были бомбы - на Лиговке и углу Невского и Лиговки - рядом с Пренделями. Говорят, что вчера (вчера было 11 тревог) фашисты били с воздуха Кронштадт - значит, пытались уничтожить флот. (Интересно, эта артстрельба - по нам или наша?) Ой, какой у меня кашель, убийственный. Это-то еще к чему?
Я трушу, я боюсь, мучительно боюсь - это очевидно. Как и 99, если не 100 % живущих. Вернее, не смерти боюсь, а жить хочу так, как жила, в основном. Как это так: ворвутся немцы или засыплют нас бомбами- и вдруг Коля будет лежать с выбитым чудесным, прекрасным его глазом (мне почему-то гибель его рисуется именно так, что глаз у него будет при этом выбит), и Юра будет убит с залитым кровью лицом, и Яшка ляжет где-нибудь за камушком, маленький и покорный...
(А артиллерия-то не наша и бьет где-то поблизости.)
Я совершенно не боюсь; в наш дом не попадет, мы за домами, вот на Троицкой - другое дело, там под самой крышей, дом жилой, если туда упадет даже не очень большой фугас - вся середка его рухнет «по винтику, по кирпичику». О, зачем мы сбежали оттуда! Ведь живут же там люди, а я еще политорганизатор дома. Но ведь это липа, липа, это райкомы придумали от беспомощности своей, да и некогда мне заниматься этой липой. Какие тут политоргани-заторы помогут, когда государство бессильно?! Конечно, надо брать судьбу в свои руки - а руки связаны мертвой системой управдомов, РЖУ, штабов, райкомов и т. д. Бюрократическая железная система сковывает все...
Нет, все же попробую хоть что-нибудь сегодня сделать для дома - подать еще раз всякие докладные и т. д.
Кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда... о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем... Мне не дали даже никакого материала, что я буду писать? Их на декламации не надуешь. Я хотела бы написать от сердца, от себя, - даже пусть подписное бы шло. (Тревога, идти в убежище или нет? Подожду, пока не будут палить... О-о!..) Хотелось бы объясниться с нею, сказать: «Ну, что ж ты, спаси нас, помоги нам, мы почти на краю гибели»... Но ушла в убежище.
Ночью, 3 часа.
Вот когда умирала Ирочка, я тоже все время писала и писала дневник. Видимо, это помогает не думать о главном.
День прошел сегодня бесплодно, но так как времени нет, то все равно. Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголке прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящих друг на друга, - матрасишко, на краю - закутанная в платки, с ввалившимися глазами - Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии - неповторимый, большой сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова...
А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки.
Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. Плакала о Тане Гуревич (Таню все сегодня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную...» О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы - «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств - сами, сами будем жить»... А говорят, что бомбу на Таню сбросила 16-летняя летчица. О, ужас! (Самолет будто потом сбили и нашли ее там, - м.б., конечно, фольклор.) О, ужас! О, какие мы люди несчастные, куда мы зашли, в какой дикий тупик и бред. О, какое бессилие и ужас. Ничего, ничего не могу. Надо было бы самой покончить с собой - это самое честное. Я уже столько налгала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить. А хотела-то только лучшего. Но закричать «братайтесь» - невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?
Все эти учения - бред, они несут только кровь, кровь и кровь.
О, мир теперь не вылезет из этой кровавой каши долго, долго, долго, - уж теперь-то я это вижу... Кончится одно - начнется другое. И все будет кровь.
Надо выжить и написать обо всем этом книгу... (Только что припадок у Кольки - зажимала ему рот, чтоб не напугал ребят за стенкой, дрался страшно.)
Зачем мы с ним живем, Господи, зачем мы живем, разве мы мало еще настрадались, ничего же лучшего уже не будет, зачем мы живем?
Очень устала душевно за сегодня. Еще эти разговоры с Олесовым (он чудом спасся, убегая из Таллинна, на их пароходишко было 38 воздушных налетов с бомбежкой) - он бормотал о самоубийстве, его приятель, бормотавший о том, что «мы 20 лет ошибались и теперь расплачиваемся», несчастное лицо А. А. Смирнова, сказавшего просто: «Да, я очень страдаю»...
Чем же я могу помочь им всем? Если б мне еще дали возможность говорить то, что я хочу сказать (опять припадки у Кольки), в том же нашем плане, - еще туда-сюда... А мне не дадут даже прочесть письмо маме так, как оно есть, - уж я знаю.
Нет, нет... Надо что-то придумать. Надо перестать писать (лгать, потому что все, что за войну, - ложь)... Надо пойти в госпиталь. Помочь солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афишки. Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах - вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей. Вожди вообще никогда не думают о людях...
Для Европы буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо близкое к правде.
Я дура - просидела почти всю ночь, а ночь была спокойной, а с утра - тревоги, страхи, боль...
28/IX-41
Сегодня в 8 ч. вечера, когда я сидела в газоубежище Дома радио, в соседний дом упали бомбы и рядом тоже нападало. Дом радио № 2, а попало в дом № 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели, и говорят, что я тоже стала совсем голубая. Но, по-моему, я не испугалась. Да и некогда было испугаться - не слышно было, как они свистели, - предварительного страха, значит, не было. Так лучше, когда перед этим не пугают, и хорошо бы еще, чтоб убило сразу, чтоб не задыхаться под камнями, чтоб не проломило носа, как Семенову.
Я уже не знаю теперь, когда я боюсь, когда нет. Вчера, когда была в «слезе» и было четыре тревоги, я очень боялась, руки были ледяные, и - конечно, над нами - вились немцы, и мне моментами хотелось крикнуть: «Да ну же, бросай, скорей бросай, я не могу больше ждать»...
7/II-42
...А между тем, может быть, меня ждет новое горе. Собирался часам к 7 прийти батька, но перед этим должен был зайти в НКВД насчет паспорта - и вот уже скоро 10, а его все нет. Умер .по дороге? Задержали в НКВД? Одиннадцатый час, а его нет. М.6., сидит там и ждет, когда выправят паспорт? Может, у меня в Ленинграде уже нет папы?
Народ умирает страшно. Умерли Левка Цырлин, Аксенов, Гофман - а на улицах возят уже не гробы, а просто зашитых в одеяло покойников. Возят по двое сразу на одних санях. Яшка заботится об отправке - спасении нашего оркестра, 250 чел. Диктовал: «Первая скрипка умерла, фагот при смерти, лучший ударник умер».
Кругом говорят о смертях и покойниках.
Неужели мы выживем - вот я, Юра, Яша, папа?
Пол-одиннадцатого - папы нет. О, Господи...
Папа так и не пришел. Просто не знаю, в чем дело. Он очень хотел прийти - я приготовила ему 2 плитки столярного клея, кулек месятки, бутылку политуры, даже настоящего мяса. Что с папой?
Мое омертвление дошло до того, что я даже смеюсь с ребятами...
8/II-42
Папу держали вчера в НКВД до 12 ч., а потом он просто не попал к нам потому, что дверь в Д[ом] р[адио] была уже закрыта. Его, кажется, высылают все-таки. В чем дело, он не объяснил, но говорит, что какие-то новые мотивы, и просил «приготовить рюкзачок». Расстроен страшно. Должен завтра прийти. В чем дело - ума не приложу, чувствую только, что какая-то очередная подлая и бессмысленная обида. В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит и без того измученных и несчастных людей.
Я ходила к отцу несколько дней назад...
Он организовал лазарет для дистрофиков - изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет - уже старый, но бодрый, деятельный, веселый.
Естественно, мужественно, без подчеркивания своего героизма, человек выдержал 5 месяцев дикой блокады, лечил людей и пекся о них неустанно, несмотря на горчайшую обиду, нанесенную ему властью в октябре, когда его ни за что собирались выслать, жил общей жизнью с народом - сам народ и костяк жизни города - и вот!
Что-то все-таки откопали и допекают человека.
Власть в руках у обидчиков. Как они распоясались во время войны и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской всенародной человеческой трагедии!
Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов - «и мы пахали!» О мразь, мразь!
С утра настроение было рабочим, хотелось писать о Хамармере (комиссар одной из армий,оборонявших город), а сейчас из-за отца вновь все кажется ложью и фальшью.
К чему все наши усилия, если остается возможность терзать честного человека без всяких оснований?
Ни к чему! Ни к чему.
«Друг мой, ты честен: покинь этот край!»
Примечание сестры О. Берггольц:
"Едва ли возможно, чтоб папа так долго не рассказывал Ольге о сути дела (хотя мы так боялись ей навредить, зная ее характер! Ведь отказ «помочь» НКВД, отказ шпионить и доносить был криминалом. Похоже, что они искали для заявлений другую «причину» - в том, например, чем его пугали: вот ходил к знакомому священнику в карты играть... А тот, бедный, очевидно, уже был арестован (это был отец Вячеслав, отец нашего учителя математики Дмитрия Вячеславовича. Мы его любили, хотя и прозвали Дмитрий Поп).
Когда я приехала в Ленинград по Дороге жизни (25/II-42 г.), папа сразу рассказал мне все дословно.
Примерно с конца сентября все виды связи с Ленинградом были прерваны. Печать и радио преднамеренно не сообщали, что Ленинград вымирает от голода. Около 20 февраля прорвался самолетом из Ленинграда в Москву военкор Василий Ардаматский. Он привез мне твои письма и рассказал, что умер Николай, а ты почти безнадежна. Я кинулась к Фадееву. Оказалось, что даже он не знал истинного положения Ленинграда. Тогда очень быстро была организована машина с подарками ленинградцам, а я оказалась готовой ехать в блокаду и потому была туда командирована.
Ольга записала: «25/11-42 г. ...Утром, когда уходили, на район был дикий артналет, и снаряды свистели над нашим домом без секундной паузы, как в зоомагзине птицы. Нас не убило, хотя снаряды ложились везде, близко.
А когда пришли в Дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.
Она приехала к нам на грузовике с продовольствием, с посылками для Союза писателей, мне тоже большая посылка.
Она ехала кружным путем, одна с водителем, вооруженная пистолетом каким-то, в штанах, в полушубке, красивая, отважная, по-бабьи очаровательно-суетная. Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, только что освобожденных от немцев, забирала по дороге письма и посылки для ленинградцев.
Горжусь ею и изумляюсь ей - вздорной моей, сварливой Муське - до немоты, до слез, до зависти.
Хочет как можно скорее выволочь меня отсюда - и так напирает, что я вроде как способность к самостоятельным действиям утратила и такой жалкой себе кажусь!
Она привезла много отличных вещей.
Кое-что возьмем обратно в Москву - там тоже плохо, порядочно отдаем папе, хочу хороший подарок сделать Марусе Машковой».
Я предложила папе: дай вывезу тебя вместе с другими «эваками»! Куда там: «Отсюда только на фронт». Ох, наивные мы были люди!
Ольгу я отправила самолетом в состоянии тяжкой дистрофии. О высылке отца этапом мы узнали в Москве.
В дневнике Ольги от 13/IV-42 г. есть такая запись:
«От отца с 3/IV нет вестей. Может быть, его уже нет в живых, погиб в пути. ...А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать» всего о собственном отце - они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу!
Воюю за то, чтобы стереть с лица советской земли их мерзкий антинародный переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова - во сколько раз больше и лучше наработали бы мы при полном доверии к нам? Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб чистый советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое искусство. Ну, а если всего этого не будет... посмотрим!»
Едва живого отца привезли в Минусинский край...
Сейчас, читая о сталинской политике заложников, я думаю: крестный путь отца был организован для острастки Ольги, чтобы держать ее в покорности. Но тогда нам это и в голову не приходило; боролись за него, как все - с явлениями «общего порядка», а Ольга по-прежнему оставалась самой собой, и невидимый ГУЛАГ - тоже сам собой: то есть убийцей - «не мытьем, так катаньем».
Долгие папины скитания прервались одной знаменательной встречей... На одном из спектаклей в театре Акимова Ольга увидела сидящего почти рядом своего старшего следователя (палача!) А. Н. Фалина. Он был уже главным прокурором города.
«Вы узнаете меня, Ольга Федоровна?» - осклабился он.
«Узнаю». («Меня всю охватила дрожь...» - рассказывала мне она.)
«Чем могу быть вам полезен?»
И у нее хватило сил не плюнуть ему в глаза, а просить об отце.
«Конечно, конечно». (Мол, только-то и всего.)
Через два дня по телефону уже жестко: «Это трудно. Дело в том, что дела - нет!..» А откуда бы ему быть? Однако «индульгенция», как говорил папа, была получена.
Приехал он в Ленинград тяжелобольным. Деревянный дом, где он жил, был разобран на дрова, имущество все пропало. Меньше чем через год - 7/XI-48 г., он умер.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Так же по теме:
▪ Блокада Ленинграда в документах из рассекреченных архивов
▪ "Осада человека" - блокадные записки Ольги Фрейденберг
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
