«30 величайших картин, которые потрясли мир: краткая история живописи от Ренессанса до наших дней»
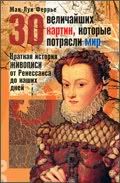
Сразу оговорюсь: я не люблю серии «Для чайников» или «Хрестоматия зарубежной прозы ХХ века». Более того, считаю, что тенденция к упрощению и вычленению «самого главного» приводит к созданию комиксов в США и манга в Китае по Достоевскому, однако...
«30 величайших картин, которые потрясли мир» - не совсем краткая история. Копирайтеры небрежно перевели название, допустив ошибку, тем самым, включив книгу в банальный список серий типа «Испанский язык за 30 дней». На самом деле, заголовок на французском звучит как «Приключения взгляда: краткая история искусства в 30 картинах от Ренессанса до наших дней». Казалось бы, разницы нет, однако оригинальное название подчеркивает то, что книга вовсе не стремится объять необъятное, а лишь - подтолкнуть читателя к более глубокому изучению истории живописи.
Следующий дискуссионный момент - перечень картин, которые освещены Феррье. Критерии моего отбора из массы шедевров, которые составляют западноевропейскую живопись от Ренессанса до наших дней, с одной стороны, субъективны, с другой стороны - объективны. Субъективны - в силу того, что среди картин, которые я выбрал, есть такие, которые сопротивлялись моему пониманию, особенно вначале, лишь постепенно покоряясь мне, формируя, таким образом, мой воображаемый музей, или, более точно, его часть. Объективны - насколько возможно, потому что выдающиеся полотна всегда открывают дорогу похвалам или критике в момент появления. Помещая во вступлении упомянутый выше дисклеймер, почетный профессор Высшей национальной школы изящных искусств в Париже, умывает руки, ограничив круг шедевров 30 полотнами.
Справедливо отобранные автором или нет, но перед нами - 30 эссе, посвященные 30 шедеврам живописи. Каждая заметка содержит в себе: основные вехи в истории создания и экспозиции картины; теорию стиля, в котором она выполнена; интерпретацию символики полотна; критику современников; нишу в истории искусств. Препарируя таким образом картины, Феррье с легкостью обучает основам художественного языка того, что он называет беспрерывным диалогом между видящим и видимым - тем самым позволяя читателю, захлопнув книгу и, купив билет в музей, или зайдя на официальный сайт художника, самому продолжить разговор с картинами.
Напоследок, приведу отрывок из описания «Портрета четы Арнольфини», Яна Ван Эйка:
...Среди этих предметов центральное место занимает круглое зеркало, прикрепленное на стене в глубине комнаты. На его рамке 10 медальонов, воспроизводящих эпизоды страстей Христовых от Гефсиманского сада до Воскресения. В нем отражается то, что в картине происходит на переднем плане и скрыто от зрителя. Действительно, не только Арнольфини отражаются в нем, видимые со спины, но и медная люстра, брачное ложе, маленький низкий столик и апельсины (или яблоки), боковое окно, заливающее комнату светом. Отражаются и еще два персонажа, остановившиеся на пороге, словно не решаясь войти. Один одет в голубое (возможно, художник), другой - в красное; без сомнения, они исполняют роль свидетелей. Позади тянется анфилада комнат, придающих акцент комнате супругов, которая в свою очередь открывается маленьким крошечным белым квадратиком, изображающим второе окно вдалеке.
Коллективная совесть, как ее изобразил Юргис Балтрушайтис, всегда придавала огромное значение умозрительным картинкам. В фольклоре различных европейских стран встречи с двойниками стараются избежать, потому что, когда, например, смотрят ночью в зеркало, альтер эго может потеряться, может явиться умерший (отсюда обычай закрывать зеркала, если в доме кто-то умер). Напротив, Сократ рекомендовал молодым людям смотреться в зеркала, так как они могут помочь воспитать себя добродетелью, если некрасивы, и сохранить свое преимущество, если красивы. Жак Лакан говорил о «стадии зеркала» у маленьких детей, формирующей функцию игры. Существуют зеркала разных типов: эллиптические выпуклые, называемые «колдовскими», множат и разбивают видимое; сферические вогнутые собирают небесный свет как в чаше и позволяют увидеть вещи с другой стороны (с изнанки); сферические выпуклые выражают гигантизм (и объединяют, например, все деревья, все цветы в саду или все колонны в церкви).
Выпуклое зеркало Арнольфини выражает в картине гораздо больше простого эффекта симметрии. Речь идет о своего рода камере, о глазе, который втягивает все поле реальности, об испорченной картинке. Его кривое пространство в одно и то же время разворачивает и поглощает потолок комнаты супругов, проявляет небо и сад, затрудняя видение через широко распахнутое окно. Глаз направляется к полюсам оптической сферы, и, как следствие, возникает эффект поспешности, бегства, словно из судьбы этой пары уже повыдергивали нити. Каббалист XVII в. Ван Хелмонт использовал выгнутые зеркала для демонстрации макро- и микрокосмов. Так, капля ртути отражает мир как выпуклое зеркало; но ртуть делится на мириады капелек, и в каждой из них обнаруживаются видные лишь в микроскоп Вселенные. Движение двоится к большой и малой бесконечностям - таково головокружительное впечатление от присутствия зеркала в картине Ван Эйка.
Поразительно, что картина, вроде бы предназначенная быть фотографией свадьбы, выводит нас на метафизические размышления. Я уже отмечал в предисловии, что все большие картины прежде всего - монтаж элементов, вычлененных из мира видимого, а также из религии, театра, литературы, политики, науки, философии, и менее всего - изображение, скорее - «означивание». В портрете двух буржуа между реальным и изображенным существует оптическая игра, пребывающая выше интересов хитрого Джованни и прекрасной Джованны, которые не нуждаются в том, чтобы мы были очарованы ими...