Нил Стивенсон «Истощение инноваций»
(источник)
Статья написана 12 декабря 2012 г. 00:53
Размещена в авторской колонке Borogove
На своем жизненном пути я еще застал времена, когда Соединенные Штаты были способны запускать людей в космос. Одно из врезавшизся мне в память детских воспоминаний: я сижу на плетеном коврике перед громоздким черно-белым телевизором и смотрю репортажи о первых миссиях Джемини(1). Нынешним летом в возрасте 51 года я наблюдал на своей жк-панели, как с платформы поднялся последний челнок. Я с грустью, даже с горечью следил за свертыванием космической программы. Где же те космические станции в форме пончика? Где мой билет на Марс? Вплоть до недавнего времени я держал эти чувства при себе. Недобросовестных критиков у космической программы всегда хватало с лихвой. Жаловаться на ее крах значит подставляться под удар тех, кто отнюдь не готов сострадать зажиточному белому американцу средних лет, сетующему, что не дожил до «сбычи детских мечт».

Нил Стивенсон
И все же, боюсь, тот факт, что мы не смогли достойно продолжить дело космической программы шестидесятых - своего рода признак нашей общей неспособности к большим свершениям. На глазах моих деда и отца создавались первые аэропланы, автомобили, компьютеры, осваивалась ядерная энергия - и это, на самом деле, лишь малая доля. Ученые и инженеры, достигшие зрелого возраста в первой половине ХХ века, могли с оптимизмом прогнозировать создание изобретений, способных решать многовековые проблемы, перекраивать ландшафт, строить экономику и обеспечивать работой процветающий средний класс, основу нашей стабильной демократии.
Взрыв на платформе Deepwater Horizon в 2010 г. укоренил меня в мысли, что мы разучились делать важные дела. Со времени нефтяного кризиса ОПЕК(2) миновало почти 40 лет. Всем было очевидно, что сохранение статуса экономического заложника было бы безумием для Штатов, особенно с учетом того, что за страны добывали нефть. Это и стало толчком к предложению Джимми Картера масштабно развивать и изучать синтетические источники энергии на территории США. Кто бы что ни думал о достижениях команды Картера и о том конкретном предложении, в этом была видна, по крайней мере, серьезная попытка как-то проблему решить.
С того времени, собственно, мало что было слышно. Мы десятилетиями говорим о ветряных фермах, энергии течений и солнца. В этих областях наметился некоторый прогресс, но по большому счету, энергия - это все еще нефть. В моем родном городе, Сиэтле, на план построить легкую железную дорогу вокруг озера Вашингтон было наложено вето из-за общественного недовольства - а ведь плану уже тридцать пять лет! Большие проекты муниципальным властям либо запрещают реализовывать, либо до бесконечности откладывают, зато дают добро на то, чтобы нарисовать велосипедные дорожки на асфальте магистральных улиц.
В начале 2011 года меня пригласили на конференцию «Будущее время», где я выступил, оплакивая программу освоения космоса человеком, потом обратился к энергетике и предположил, что дело отнюдь не в ракетах, а в неспособности общества воплощать в жизнь большие проекты. Мне повезло: я каким-то образом нащупал болевую точку. Оказалось, что аудитория была еще больше меня уверена в непосредственном отношении фантастики к поставленной проблеме.
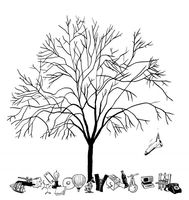
Я выделил две основные концепции на этот счет:
1. Вдохновение. Фантастика побуждает людей избирать науку и технику своим делом жизни. Утверждение истинное и даже в чем-то очевидное.
2. Теория иероглифов. Хорошая фантастика рисует картины правдоподобных, продуманных миров, в которых были внедрены в обиход некие инновации. Этим вселенным присуща целостность и внутренняя логика, ясная ученым и инженерам. Таковы миры роботовАзимова, ракет Хайнлайна и киберпространства Гибсона. Как объясняет Джим Карканиас из «Майкрософт Ресерч», эти понятия служат иероглифами - простыми, узнаваемыми символами, о значении которых осведомлены все участники диалога.
Параллельно с усложнением структуры различных устройств люди науки все больше углубляются в частные проблемы. В большом конструкторском бюро или лаборатории могут работать сотни и тысячи людей, каждому из которых доступен лишь узкий фрагмент общей задачи. Общение между ними может превратиться в ералаш и-мейлов и презентаций в MPP. То, что многие увлекаются фантастикой, отражает, помимо прочего, эффективность всеобъемлющего над-языка, который дает общую почву и понятийный аппарат. Централизованная координация их усилий чем-то будет напоминать попытки построения современной экономики из кресел Политбюро. Но если позволить ученым работать над общей и всеми понимаемой задачей, можно рассчитывать на появление свободного, саморегулирующегося рынка идей.
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
С течением времени в фантастике произошло много изменений - с 50-ых годов, эпохи развития ядерной энергии, реактивных самолетов, космической гонки и компьютеров, до сегодняшнего дня. Если говорить с глобальной точки зрения, технооптимизму Золотого Века НФ пришла на смену литература более мрачная, полная скепсиса и сомнений. Я и сам немало писал о хакерах, об архетипичном образе ловкача-трикстера, исследующего скрытые возможности сложных систем, которые придуманы некими безликими «другими».
Укрепившись в вере, что у нас есть все необходимые технические приспособления, мы теперь обращаем больше внимания на их деструктивные побочные эффекты. Кажется чистой воды абсурдом, что именно тогда, когда на горизонте маячит возможность чистого термоядерного синтеза, на вооружении у человечества стоят ветхие реакторы, типа Фукусимского, построенного еще в 1960-е.
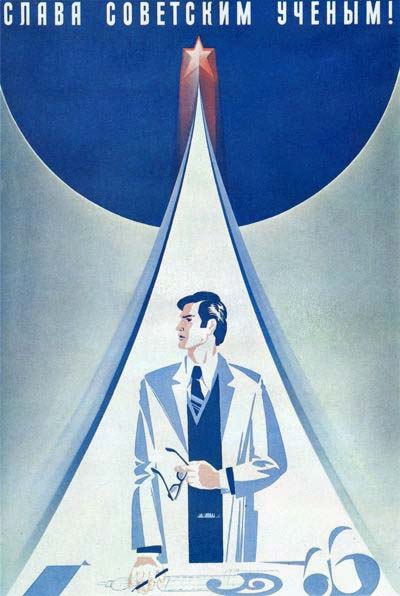
Развитие новых технологий и их повсеместное применение более не кажутся детскими игрушками парочки ботанов с логарифмическими линейками - это стало необходимостью. Другого выхода преодолеть нынешние трудности у человечества нет. Увы, мы забыли, как это делается.
«Это, собственно, вы в последнее время халявите», - заявляет Майкл Кроу, президент Аризонского Государственного Университета (и один из докладчиков на «Будущем Времени»). Речь, разумеется, о фантастах. Кроу хочет сказать, что ученые и инженеры находятся в боевой готовности и ищут применения способностей. Настает время взяться за дело фантастам - и предложить мощные, цельные образы. Это и есть суть проекта «Иероглиф» - попытка создать компендиум новой фантастики, которая, помимо прочего, сознательно обратит взор ко временам прагматичного технооптимизма Золотого Века.
ЦИВИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ ДЕСАНТНИКОВ
Сейчас нередко упоминают Китай как страну, сконцентрировавшуюся на больших стройках. Не спорю: дамбы, высокоскоростные трассы и ракеты китайцы строят невероятными темпами. Но все это, по сути, проекты не новаторские. Их космическая программа, как и аналогичные программы других стран (не исключая и нас), просто бездумное повторение того, что было сделано 50 лет назад СССР и американцами. В программе поистине инновационной должны быть заложены риски (и допуск поражения), должно присутствовать первопроходческое стремление воплотить в жизнь альтернативные способы запуска в космос, разработанные учеными еще в те времена, когда доминировали ракеты.
Только представьте завод по массовому производству легких машин, размером и сложностью - не больше холодильника, которые сами выкатываются с ленты сборочного цеха, снабжены грузом для космических путешествий и безотходным жидким водородным топливом. Эти машины могут подвергаться нацеленному обогреву наземных лазерных установок или микроволновых антенн. Нагретый до температуры, превышающей любые химические реакции, водород вырывается из сопла в основании устройства и отправляет его в полет. Регулировка полетов происходит с земли: при помощи лазеров или микроволн машина может выйти на орбиту, неся при этом куда больше груза, чем ракета, в основе которой лежат химические реакции. Со всем тем сложность проекта, его дороговизна и количество затраченного труда оказываются вполне приемлемыми. Десятилетиями такие физики, как Джордин Кэр(3) и Кевин Паркин(4), вынашивали и развивали эту идею. Аналогичную концепцию с использованием наземного импульсного лазера для поджога топлива в задней части космолета еще в ранние шестидесятые обсуждали Артур Кантровиц(5), Фримен Дайсон(6) и другие выдающиеся физики.
Если все это звучит слишком сложно - вот озвученная в 2003 г. идея Джеффа Ландиса(7) и Винсента Дени построить двадцатикилометровую башню из простых стальных тросов. Даже обычные ракеты, запускаемые с вершины такой башни, смогут нести в два раза больше груза, чем при аналогичных запусках с земли. Есть подробнейшее исследование еще времен отца космонавтики Костантина Циолковского, доказывающее, что простая веревка с петлей, свободно крутящаяся на орбите, может использоваться для того, чтобы цеплять грузы из верхних слоев атмосферы и запускать их на орбиту вообще без каких бы то ни было двигателей. Система будет черпать энергию из электродинамических процессов при полном отсутствии механизмов.
Все это идеи многообещающие - именно такие вдохновляли прежние поколения ученых и инженеров посвящать себя настоящим проектам.
Чтобы понять, насколько наш нынешний образ мышления оказывается не готов к применению масштабных инноваций, рассмотрим, как обычно используются внешние баки (ВБ) космических шаттлов. ВБ - самая большая и бросающаяся в глаза часть космического корабля на пусковой платформе, на ее фоне даже сам шаттл смотрится карликом. В полете баки остаются прикрепленными к шаттлу (или, можно сказать, наоборот) даже после того, как отпадают оба ракетных ускорителя. Они проходят весь путь сквозь атмосферу в открытый космос, и только после того, как аппарат набирает орбитальную скорость, сбрасываются и падают в атмосферу, на границе которой уничтожаются.
При умеренных затратах можно было бы эти баки держать на орбите сколь угодно долго. В момент сброса масса ВБ с учетом остатков топлива - почти в два раза превышает массу максимально допустимого груза, перевозимого челноком. Если ВБ не уничтожать, то получится, что общий вес груза, отправляемого на орбиту, утраивается. Из использованных ВБ можно конструировать объекты, своим размахом способных затмить МКС, а циркулирующий вокруг кислород и водород - синтезировать, получив электричество и тонны воды - ценнейшей и очень дорогой в космосе субстанции.
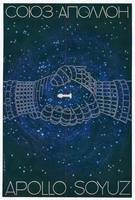
Увы, несмотря на все отчаянные усилия космических экспертов, в НАСА в силу технических и политических соображений предпочли сжигать ВБ в атмосфере. Что наглядно демонстрирует, насколько ныне затруднительны инновации и в прочих областях.
СТРОЙКИ ВЕКА НА ДЕЛЕ
Без риска провала не бывает и инноваций. С позиции сегодняшнего дня мир в середине ХХ века, когда случились радикальные, всеобъемлющие нововведения, был безумно опасным и нестабильным. Впрочем, то, что нам кажется серьезным риском, могло вообще не волновать - или даже не замечаться - людьми, пережившими Депрессию, Мировые войны и холодную войну. Ни ремней безопасности, ни антибиотиков, ни некоторых вакцин тогда просто не существовало. Гонка между западными демократиями и коммунистическими державами вынуждала первых на полную катушку использовать воображение своих людей науки - и даже гарантировала своего рода индульгенцию в случае, если ожидания не оправдывались. Седеющий аксакал из НАСА однажды поделился со мной мнением, что высадка человека на Луну была величайшим достижением коммунистов.
Тим Харфорд(8) в своей недавно вышедшей книге «Реализация: почему к успеху всегда ведут неудачи» приводит пример Чарльза Дарвина, обнаружившего на Галпагосских островах широчайший ряд необычных видов. Местная экосистема являла разительный контраст с тем, что он наблюдал на больших континентах, где эволюционные эксперименты тормозились естественным стремлением к экологическому консенсусу и скрещиванию видов. Харфорд противопоставляет «Галпагосскую изоляцию» «нервозной иерархии корпорации», чтобы оценить способность к инновациям социальных институтов.
Большинство работников корпораций или НИИ обращали внимание на следующий феномен. В кабинете сидит несколько специалистов и перекидываются идеями. В ходе дискуссии возникает некая многообещающая концепция. Потом из своего угла какой-нибудь обладатель лэптопа залезает в Google и объявляет во всеуслышание, что эта «новая» идея на самом деле весьма стара, и уже были попытки применить ее на деле. Либо успешные, либо нет.
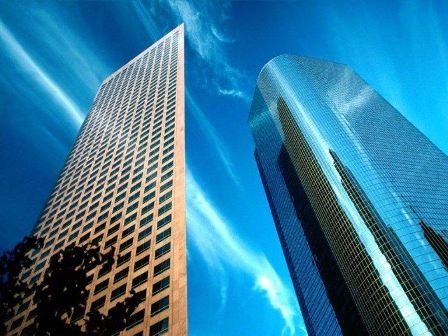
Если ее постиг провал, то ни один дорожащий своим местом управленец не станет рисковать деньгами, чтобы попытаться ее заново возродить. Если же идея имела успех, значит, она запатентована и вторичный выход на рынок с ней невозможен, так как первые, кто до нее додумался, пользуются преимуществом первопроходца и наверняка ограничат доступ последователям. Перспективные идеи, которые были таким образом похоронены, думаю, исчисляются миллионами.
А что если у парня-в-углу не было бы доступа в Google? Потребовались бы недели копания в библиотеках, прежде чем кто-нибудь обнаружит, что идея не вполне свежа. Но до этого были бы изнурительные сидения за книгами, разветвление ссылок - полезных и не очень. Когда, наконец, прецедент был бы обнаружен, возможно, оказалось бы, что он не вполне идентичен новой концепции. Пока идет поиск, может появиться уйма причин, по которым стоит попробовать сделать то же самое второй раз, например, применив инновации из других областей научного знания. Вот и очевидная польза «Галпагосской изоляции».
На другой чаше весов - борьба за выживание на большом континенте, где укоренившиеся экосистемы не дают пробиться новым веяниям. Джарон Ланье(9), программист, композитор, художник и автор недавно вышедшей «Вы не гаджет. Манифест» отмечал косвенные последствия повсеместного распространения Интернета - информационного эквивалента большого континента. В досетевую эпоху предприниматели были вынуждены принимать решения исходя из ограниченной даже на их взгляд информации. Ныне же, напротив, информация течет в режиме реального времени из бесчисленных источников, доступ к которым был немыслим еще пару поколений назад. А мощные компьютеры обрабатывают, упорядочивают и представляют данные такими способами, что по сравнению с ними рисованные от руки графики моей молодости - как крестики-нолики перед нынешними видеоиграми. Теперь принимающие решение работники как никогда всеведущи, и в самом понятии «риск» нетрудно признать не более чем причудливый пережиток примитивного, опасного прошлого.
Иллюзия окончательного избавления от неуверенности в деле корпоративного управления - это не просто вопрос личного предпочтения. В протокольном поле, образовавшемся вокруг деятельности различных «ОАО», у управленцев явно отбивают охоту идти на осознанный риск - даже если чутье им подсказывает, что их ставка окупится в перспективе. Понятия «перспективы» в сферах производства, живущих от одного квартального отчета к другому, просто нет. Вероятность, что некое нововведение окупится, так и остается вероятностью, не успевающей перерасти в нечто большее до первой повестки в суд от адвокатов миноритарных акционеров.
Сегодняшняя вера в общество детерминизма - вот истинный убийца прогресса. Лучшее, что сейчас может сделать храбрый управленец - это поощрять мелкие улучшения функционирующей системы. Так сказать, стремиться к ближайшей видимой вершине, попутно сжигая жирок и пробавляясь мелкими нововведениями, подобно нынешним градостроителям, которые отмахиваются от топливным проблем, ограничиваясь велосипедными дорожками по обочинам улиц. Любая стратегия, выстроенная под длительное путешествие и допускающая кратковременные жертвы для достижения высших целей, рано или поздно падет под гнетом системы, превозносящей сиюминутную выгоду, терпимой к стагнации и отвергающей все прочее как неудовлетворительный результат. Это и есть мир, где нет места большим проектам.

(1) Джемини - программа НАСА 1965 - 1966 гг. по запуску человека в космос.
(2) Нефтяной кризис 1973 г. - эмбарго, наложенное странами ОПЕК, на Израиль и его союзников в Войне Судного Дня и продемонстрировавшее зависимость развитых стран от цен на нефть.
(3) Кэр, Джордин (род. 1956) - американский физик-лазерщик, активный член американского фэндома.
(4) Паркин, Кевин - американский физик, астроном, сотрудник НАСА, ныне заместитель директора Центра планирования полетов НАСА.
(5) Кантровиц, Артур Роберт (1913 - 2008 гг.) - американский физик-инженер, изобретатель вариометра, автор трудов по газовой динамике
(6) Дайсон, Фримен (род. 1923 г.) - англо-американский физик-теоретик, астроном, автор многочисленных работ по ядерной инженерии, квантовой электродинамике, физике твердых тел. Наиболее известный проект - т.н. сфера Дайсона, замкнутая оболочкой система вокруг звезды. Показательно, что эту идею Дайсон почерпнул из романа О. Степлдона «Создатель звезд» - см. чуть выше статью Стивенсона.
(7) Ландис, Джеффри (род. 1955 г.) - американский физик-астроном, сотрудник НАСА, автор нескольких романов в жанре «твердой» НФ.
(8) Харфорд, Тим (род. 1973 г.) - британский экономист, журналист, сотрудник The Financial Times.
(9) Ланье, Джерон (род. 1960 г.) - американский программист, композитор, в разное время сотрудник компаний Atari, Microsoft Research и Linden Lab, один из первых популяризаторов термина «виртуальная реальность».
Перевод выполнен по http://www.worldpolicy.org/journal/fall2011/innovation-starvation
СО-сообщества 2 Академия, Марсианский трактор, Мир Полдня, Школа 3.0, ЗОНА СИНГУЛЯРНОСТИ.
Статья написана 12 декабря 2012 г. 00:53
Размещена в авторской колонке Borogove
На своем жизненном пути я еще застал времена, когда Соединенные Штаты были способны запускать людей в космос. Одно из врезавшизся мне в память детских воспоминаний: я сижу на плетеном коврике перед громоздким черно-белым телевизором и смотрю репортажи о первых миссиях Джемини(1). Нынешним летом в возрасте 51 года я наблюдал на своей жк-панели, как с платформы поднялся последний челнок. Я с грустью, даже с горечью следил за свертыванием космической программы. Где же те космические станции в форме пончика? Где мой билет на Марс? Вплоть до недавнего времени я держал эти чувства при себе. Недобросовестных критиков у космической программы всегда хватало с лихвой. Жаловаться на ее крах значит подставляться под удар тех, кто отнюдь не готов сострадать зажиточному белому американцу средних лет, сетующему, что не дожил до «сбычи детских мечт».

Нил Стивенсон
И все же, боюсь, тот факт, что мы не смогли достойно продолжить дело космической программы шестидесятых - своего рода признак нашей общей неспособности к большим свершениям. На глазах моих деда и отца создавались первые аэропланы, автомобили, компьютеры, осваивалась ядерная энергия - и это, на самом деле, лишь малая доля. Ученые и инженеры, достигшие зрелого возраста в первой половине ХХ века, могли с оптимизмом прогнозировать создание изобретений, способных решать многовековые проблемы, перекраивать ландшафт, строить экономику и обеспечивать работой процветающий средний класс, основу нашей стабильной демократии.
Взрыв на платформе Deepwater Horizon в 2010 г. укоренил меня в мысли, что мы разучились делать важные дела. Со времени нефтяного кризиса ОПЕК(2) миновало почти 40 лет. Всем было очевидно, что сохранение статуса экономического заложника было бы безумием для Штатов, особенно с учетом того, что за страны добывали нефть. Это и стало толчком к предложению Джимми Картера масштабно развивать и изучать синтетические источники энергии на территории США. Кто бы что ни думал о достижениях команды Картера и о том конкретном предложении, в этом была видна, по крайней мере, серьезная попытка как-то проблему решить.
С того времени, собственно, мало что было слышно. Мы десятилетиями говорим о ветряных фермах, энергии течений и солнца. В этих областях наметился некоторый прогресс, но по большому счету, энергия - это все еще нефть. В моем родном городе, Сиэтле, на план построить легкую железную дорогу вокруг озера Вашингтон было наложено вето из-за общественного недовольства - а ведь плану уже тридцать пять лет! Большие проекты муниципальным властям либо запрещают реализовывать, либо до бесконечности откладывают, зато дают добро на то, чтобы нарисовать велосипедные дорожки на асфальте магистральных улиц.
В начале 2011 года меня пригласили на конференцию «Будущее время», где я выступил, оплакивая программу освоения космоса человеком, потом обратился к энергетике и предположил, что дело отнюдь не в ракетах, а в неспособности общества воплощать в жизнь большие проекты. Мне повезло: я каким-то образом нащупал болевую точку. Оказалось, что аудитория была еще больше меня уверена в непосредственном отношении фантастики к поставленной проблеме.
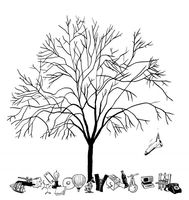
Я выделил две основные концепции на этот счет:
1. Вдохновение. Фантастика побуждает людей избирать науку и технику своим делом жизни. Утверждение истинное и даже в чем-то очевидное.
2. Теория иероглифов. Хорошая фантастика рисует картины правдоподобных, продуманных миров, в которых были внедрены в обиход некие инновации. Этим вселенным присуща целостность и внутренняя логика, ясная ученым и инженерам. Таковы миры роботовАзимова, ракет Хайнлайна и киберпространства Гибсона. Как объясняет Джим Карканиас из «Майкрософт Ресерч», эти понятия служат иероглифами - простыми, узнаваемыми символами, о значении которых осведомлены все участники диалога.
Параллельно с усложнением структуры различных устройств люди науки все больше углубляются в частные проблемы. В большом конструкторском бюро или лаборатории могут работать сотни и тысячи людей, каждому из которых доступен лишь узкий фрагмент общей задачи. Общение между ними может превратиться в ералаш и-мейлов и презентаций в MPP. То, что многие увлекаются фантастикой, отражает, помимо прочего, эффективность всеобъемлющего над-языка, который дает общую почву и понятийный аппарат. Централизованная координация их усилий чем-то будет напоминать попытки построения современной экономики из кресел Политбюро. Но если позволить ученым работать над общей и всеми понимаемой задачей, можно рассчитывать на появление свободного, саморегулирующегося рынка идей.
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
С течением времени в фантастике произошло много изменений - с 50-ых годов, эпохи развития ядерной энергии, реактивных самолетов, космической гонки и компьютеров, до сегодняшнего дня. Если говорить с глобальной точки зрения, технооптимизму Золотого Века НФ пришла на смену литература более мрачная, полная скепсиса и сомнений. Я и сам немало писал о хакерах, об архетипичном образе ловкача-трикстера, исследующего скрытые возможности сложных систем, которые придуманы некими безликими «другими».
Укрепившись в вере, что у нас есть все необходимые технические приспособления, мы теперь обращаем больше внимания на их деструктивные побочные эффекты. Кажется чистой воды абсурдом, что именно тогда, когда на горизонте маячит возможность чистого термоядерного синтеза, на вооружении у человечества стоят ветхие реакторы, типа Фукусимского, построенного еще в 1960-е.
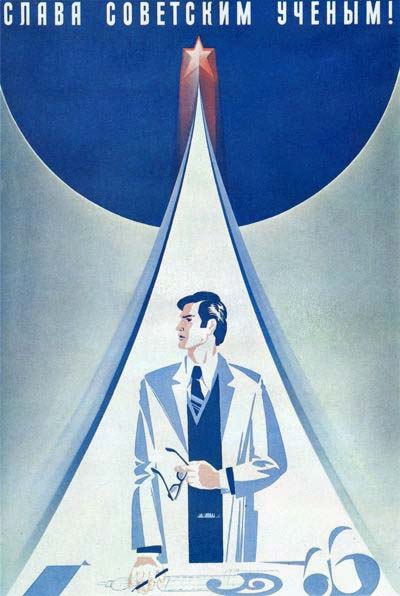
Развитие новых технологий и их повсеместное применение более не кажутся детскими игрушками парочки ботанов с логарифмическими линейками - это стало необходимостью. Другого выхода преодолеть нынешние трудности у человечества нет. Увы, мы забыли, как это делается.
«Это, собственно, вы в последнее время халявите», - заявляет Майкл Кроу, президент Аризонского Государственного Университета (и один из докладчиков на «Будущем Времени»). Речь, разумеется, о фантастах. Кроу хочет сказать, что ученые и инженеры находятся в боевой готовности и ищут применения способностей. Настает время взяться за дело фантастам - и предложить мощные, цельные образы. Это и есть суть проекта «Иероглиф» - попытка создать компендиум новой фантастики, которая, помимо прочего, сознательно обратит взор ко временам прагматичного технооптимизма Золотого Века.
ЦИВИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ ДЕСАНТНИКОВ
Сейчас нередко упоминают Китай как страну, сконцентрировавшуюся на больших стройках. Не спорю: дамбы, высокоскоростные трассы и ракеты китайцы строят невероятными темпами. Но все это, по сути, проекты не новаторские. Их космическая программа, как и аналогичные программы других стран (не исключая и нас), просто бездумное повторение того, что было сделано 50 лет назад СССР и американцами. В программе поистине инновационной должны быть заложены риски (и допуск поражения), должно присутствовать первопроходческое стремление воплотить в жизнь альтернативные способы запуска в космос, разработанные учеными еще в те времена, когда доминировали ракеты.
Только представьте завод по массовому производству легких машин, размером и сложностью - не больше холодильника, которые сами выкатываются с ленты сборочного цеха, снабжены грузом для космических путешествий и безотходным жидким водородным топливом. Эти машины могут подвергаться нацеленному обогреву наземных лазерных установок или микроволновых антенн. Нагретый до температуры, превышающей любые химические реакции, водород вырывается из сопла в основании устройства и отправляет его в полет. Регулировка полетов происходит с земли: при помощи лазеров или микроволн машина может выйти на орбиту, неся при этом куда больше груза, чем ракета, в основе которой лежат химические реакции. Со всем тем сложность проекта, его дороговизна и количество затраченного труда оказываются вполне приемлемыми. Десятилетиями такие физики, как Джордин Кэр(3) и Кевин Паркин(4), вынашивали и развивали эту идею. Аналогичную концепцию с использованием наземного импульсного лазера для поджога топлива в задней части космолета еще в ранние шестидесятые обсуждали Артур Кантровиц(5), Фримен Дайсон(6) и другие выдающиеся физики.
Если все это звучит слишком сложно - вот озвученная в 2003 г. идея Джеффа Ландиса(7) и Винсента Дени построить двадцатикилометровую башню из простых стальных тросов. Даже обычные ракеты, запускаемые с вершины такой башни, смогут нести в два раза больше груза, чем при аналогичных запусках с земли. Есть подробнейшее исследование еще времен отца космонавтики Костантина Циолковского, доказывающее, что простая веревка с петлей, свободно крутящаяся на орбите, может использоваться для того, чтобы цеплять грузы из верхних слоев атмосферы и запускать их на орбиту вообще без каких бы то ни было двигателей. Система будет черпать энергию из электродинамических процессов при полном отсутствии механизмов.
Все это идеи многообещающие - именно такие вдохновляли прежние поколения ученых и инженеров посвящать себя настоящим проектам.
Чтобы понять, насколько наш нынешний образ мышления оказывается не готов к применению масштабных инноваций, рассмотрим, как обычно используются внешние баки (ВБ) космических шаттлов. ВБ - самая большая и бросающаяся в глаза часть космического корабля на пусковой платформе, на ее фоне даже сам шаттл смотрится карликом. В полете баки остаются прикрепленными к шаттлу (или, можно сказать, наоборот) даже после того, как отпадают оба ракетных ускорителя. Они проходят весь путь сквозь атмосферу в открытый космос, и только после того, как аппарат набирает орбитальную скорость, сбрасываются и падают в атмосферу, на границе которой уничтожаются.
При умеренных затратах можно было бы эти баки держать на орбите сколь угодно долго. В момент сброса масса ВБ с учетом остатков топлива - почти в два раза превышает массу максимально допустимого груза, перевозимого челноком. Если ВБ не уничтожать, то получится, что общий вес груза, отправляемого на орбиту, утраивается. Из использованных ВБ можно конструировать объекты, своим размахом способных затмить МКС, а циркулирующий вокруг кислород и водород - синтезировать, получив электричество и тонны воды - ценнейшей и очень дорогой в космосе субстанции.
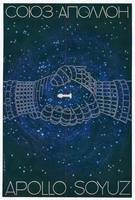
Увы, несмотря на все отчаянные усилия космических экспертов, в НАСА в силу технических и политических соображений предпочли сжигать ВБ в атмосфере. Что наглядно демонстрирует, насколько ныне затруднительны инновации и в прочих областях.
СТРОЙКИ ВЕКА НА ДЕЛЕ
Без риска провала не бывает и инноваций. С позиции сегодняшнего дня мир в середине ХХ века, когда случились радикальные, всеобъемлющие нововведения, был безумно опасным и нестабильным. Впрочем, то, что нам кажется серьезным риском, могло вообще не волновать - или даже не замечаться - людьми, пережившими Депрессию, Мировые войны и холодную войну. Ни ремней безопасности, ни антибиотиков, ни некоторых вакцин тогда просто не существовало. Гонка между западными демократиями и коммунистическими державами вынуждала первых на полную катушку использовать воображение своих людей науки - и даже гарантировала своего рода индульгенцию в случае, если ожидания не оправдывались. Седеющий аксакал из НАСА однажды поделился со мной мнением, что высадка человека на Луну была величайшим достижением коммунистов.
Тим Харфорд(8) в своей недавно вышедшей книге «Реализация: почему к успеху всегда ведут неудачи» приводит пример Чарльза Дарвина, обнаружившего на Галпагосских островах широчайший ряд необычных видов. Местная экосистема являла разительный контраст с тем, что он наблюдал на больших континентах, где эволюционные эксперименты тормозились естественным стремлением к экологическому консенсусу и скрещиванию видов. Харфорд противопоставляет «Галпагосскую изоляцию» «нервозной иерархии корпорации», чтобы оценить способность к инновациям социальных институтов.
Большинство работников корпораций или НИИ обращали внимание на следующий феномен. В кабинете сидит несколько специалистов и перекидываются идеями. В ходе дискуссии возникает некая многообещающая концепция. Потом из своего угла какой-нибудь обладатель лэптопа залезает в Google и объявляет во всеуслышание, что эта «новая» идея на самом деле весьма стара, и уже были попытки применить ее на деле. Либо успешные, либо нет.
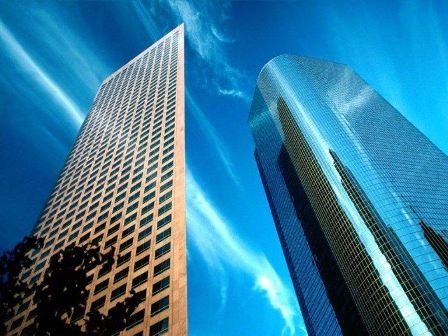
Если ее постиг провал, то ни один дорожащий своим местом управленец не станет рисковать деньгами, чтобы попытаться ее заново возродить. Если же идея имела успех, значит, она запатентована и вторичный выход на рынок с ней невозможен, так как первые, кто до нее додумался, пользуются преимуществом первопроходца и наверняка ограничат доступ последователям. Перспективные идеи, которые были таким образом похоронены, думаю, исчисляются миллионами.
А что если у парня-в-углу не было бы доступа в Google? Потребовались бы недели копания в библиотеках, прежде чем кто-нибудь обнаружит, что идея не вполне свежа. Но до этого были бы изнурительные сидения за книгами, разветвление ссылок - полезных и не очень. Когда, наконец, прецедент был бы обнаружен, возможно, оказалось бы, что он не вполне идентичен новой концепции. Пока идет поиск, может появиться уйма причин, по которым стоит попробовать сделать то же самое второй раз, например, применив инновации из других областей научного знания. Вот и очевидная польза «Галпагосской изоляции».
На другой чаше весов - борьба за выживание на большом континенте, где укоренившиеся экосистемы не дают пробиться новым веяниям. Джарон Ланье(9), программист, композитор, художник и автор недавно вышедшей «Вы не гаджет. Манифест» отмечал косвенные последствия повсеместного распространения Интернета - информационного эквивалента большого континента. В досетевую эпоху предприниматели были вынуждены принимать решения исходя из ограниченной даже на их взгляд информации. Ныне же, напротив, информация течет в режиме реального времени из бесчисленных источников, доступ к которым был немыслим еще пару поколений назад. А мощные компьютеры обрабатывают, упорядочивают и представляют данные такими способами, что по сравнению с ними рисованные от руки графики моей молодости - как крестики-нолики перед нынешними видеоиграми. Теперь принимающие решение работники как никогда всеведущи, и в самом понятии «риск» нетрудно признать не более чем причудливый пережиток примитивного, опасного прошлого.
Иллюзия окончательного избавления от неуверенности в деле корпоративного управления - это не просто вопрос личного предпочтения. В протокольном поле, образовавшемся вокруг деятельности различных «ОАО», у управленцев явно отбивают охоту идти на осознанный риск - даже если чутье им подсказывает, что их ставка окупится в перспективе. Понятия «перспективы» в сферах производства, живущих от одного квартального отчета к другому, просто нет. Вероятность, что некое нововведение окупится, так и остается вероятностью, не успевающей перерасти в нечто большее до первой повестки в суд от адвокатов миноритарных акционеров.
Сегодняшняя вера в общество детерминизма - вот истинный убийца прогресса. Лучшее, что сейчас может сделать храбрый управленец - это поощрять мелкие улучшения функционирующей системы. Так сказать, стремиться к ближайшей видимой вершине, попутно сжигая жирок и пробавляясь мелкими нововведениями, подобно нынешним градостроителям, которые отмахиваются от топливным проблем, ограничиваясь велосипедными дорожками по обочинам улиц. Любая стратегия, выстроенная под длительное путешествие и допускающая кратковременные жертвы для достижения высших целей, рано или поздно падет под гнетом системы, превозносящей сиюминутную выгоду, терпимой к стагнации и отвергающей все прочее как неудовлетворительный результат. Это и есть мир, где нет места большим проектам.

(1) Джемини - программа НАСА 1965 - 1966 гг. по запуску человека в космос.
(2) Нефтяной кризис 1973 г. - эмбарго, наложенное странами ОПЕК, на Израиль и его союзников в Войне Судного Дня и продемонстрировавшее зависимость развитых стран от цен на нефть.
(3) Кэр, Джордин (род. 1956) - американский физик-лазерщик, активный член американского фэндома.
(4) Паркин, Кевин - американский физик, астроном, сотрудник НАСА, ныне заместитель директора Центра планирования полетов НАСА.
(5) Кантровиц, Артур Роберт (1913 - 2008 гг.) - американский физик-инженер, изобретатель вариометра, автор трудов по газовой динамике
(6) Дайсон, Фримен (род. 1923 г.) - англо-американский физик-теоретик, астроном, автор многочисленных работ по ядерной инженерии, квантовой электродинамике, физике твердых тел. Наиболее известный проект - т.н. сфера Дайсона, замкнутая оболочкой система вокруг звезды. Показательно, что эту идею Дайсон почерпнул из романа О. Степлдона «Создатель звезд» - см. чуть выше статью Стивенсона.
(7) Ландис, Джеффри (род. 1955 г.) - американский физик-астроном, сотрудник НАСА, автор нескольких романов в жанре «твердой» НФ.
(8) Харфорд, Тим (род. 1973 г.) - британский экономист, журналист, сотрудник The Financial Times.
(9) Ланье, Джерон (род. 1960 г.) - американский программист, композитор, в разное время сотрудник компаний Atari, Microsoft Research и Linden Lab, один из первых популяризаторов термина «виртуальная реальность».
Перевод выполнен по http://www.worldpolicy.org/journal/fall2011/innovation-starvation
СО-сообщества 2 Академия, Марсианский трактор, Мир Полдня, Школа 3.0, ЗОНА СИНГУЛЯРНОСТИ.