Ещё немного о Первой мировой (2)
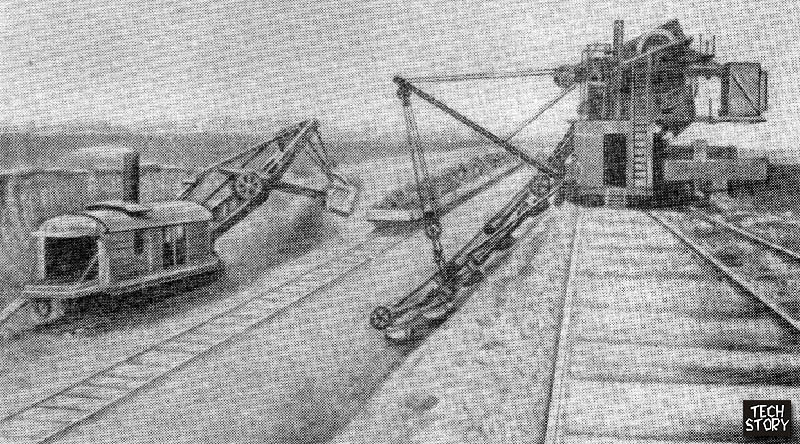
Продолжение. Начало тут.
В предыдущей заметке я кратко описал те огромные проблемы, с которыми прошлось столкнуться Российской империи после вступления в Первую мировую войну, в части добычи угля. Уголь на тот момент был жизненно необходим как для функционирования транспорта, флота, так и для нормальной работы тяжелой промышленности, без которой невозможно было вести продолжительную и изнуряющую войну.
Отставание добычи топлива от потребностей в нем (дефицит по углю по различным оценкам составлял от 550 до 800 млн. пудов в год) крайне отрицательно сказывалось на работе как военной, так и гражданской промышленности, приведший её, в конце концов, к глубочайшему кризису.
Как уже отмечалось, наибольшее значение имел в топливном балансе страны донецкий уголь, а также размеренность и своевременность доставки его к потребителям.
Если в 1914 году промышленность Российской империи ещё смогла пережить на довоенных запасах угля, то к весне 1915 года ощущался острый недостаток топлива и из-за сокращения его добычи ( правительство мобилизовало около 30-40% всех забойщиков) и из-за возникнувших трудностей его доставки.
Осознание серьёзности проблемы возникло у руководства империи к марту 1915 года, когда был создан Комитет по распределению угля при Министерстве путей сообщения. А 31 марта 1915 года под председательством министра путей сообщения был организован специальный комитет по распределению топлива. В него входили представители различных ведомств и три человека от углепромышленников.
Принявшись за дело, Комитет выяснил, что производительность Донецкого бассейна сильно отставала от нужд промышленности, запасы на шахтах были полностью исчерпаны. Минимальная необходимость угля для важнейших потребителей на весенне-летние месяцы 1915 года была оценена министром путей сообщения в 156 млн. пудов в месяц, наименьшая производительность шахт должна была составлять 160 млн. пудов. По результатам проведённого анализа министр путей сообщений С. В. Рухлов в докладе Николаю Второму писал: «Главнейшие заботы ныне должны быть в отношении донецкого угля обращены на увеличение его добычи...»
В результате предложенных комитетом мер, а также наведением некоторого порядка, весной 1915 года наступило некоторое временное улучшение. Так, в апреле и мае было вывезено по 120 млн. пудов, но уже в июне - июле в перевозках угля наметилась тенденция к ухудшению.
Не смогли увеличить и добычу угля, а вывоз добытого умудрялся сокращаться пугающе быстрыми темпами. По данным Особого совещания по топливу, в июле было вывезено 104,6 млн. пудов, в октябре - только 74,8 млн. пудов.
В результате, летом и осенью 1915 года транспорт и большинство предприятий не только не образовали обычные зимние запасы, но даже не могли полностью обеспечить свои собственные текущие потребности.
К осени 1915 года страна начала испытывать сильнейший недостаток в угле, усилившейся резкими перебоями в работе железных дорог, связанными, прежде всего, с тяжёлыми поражениями на фронтах, необходимостью проводить эвакуацию как населения, так и промышленных предприятий с оставляемых территорий.
Всё это привело к острейшему железнодорожному и топливному кризису, последствиями которого стало катастрофическое и систематическое сокращение производства и ещё бОльшим сокращением вывоза угля. Ситуация грозила срывом в скручивающуюся спираль.
В августе 1915 года было создано Особое совещание по топливу под председательством министра торговли и промышленности. Распределением топлива наконец-то было поручено заниматься ведомству, напрямую отвечавшему за рост его производства и имеющему все необходимые сведения о размерах потребности в нём промышленности.
Особое совещание по топливу имело сеть районных уполномоченных, инспекцию для наблюдения за добычей, запасами и приёмом топлива. Несколько позднее, в 1916 году, будет выделено два основных направления, с назначением на каждое своего главноуполномоченного. Одного - по распределению нефтяного топлива, другого - по распределению донецкого угля. Главноуполномоченный по Донецкому бассейну находился в Харькове и занимался исключительно распределением и отгрузкой угля по разнорядке, утверждённой Особым совещанием.
Надо отметить, что в функции Особого совещания не входила торговля топливом. Этим, как и прежде до войны, занимались сугубо частные лица. Все потребители топлива заключали договоры на поставку с фирмами и корпорациями, добывающими уголь. Государство занималось лишь распределением топлива, выдавая разрешения на его вывоз.
Попытки сочетать несочетаемое при такой схеме работы открывали огромные возможности к различным, как это сейчас говорят, непрозрачным и коррупционным схемам, которыми, естественно, не приминули воспользоваться.
Однако, первой задачей Особого совещания по топливу, по его же собственному мнению, «являлось всемерное смягчение того угольного голода в стране, который принял небывало острые формы осенью 1915 года в связи с затруднительными условиями железнодорожных перевозок». Его внимание, прежде всего, было приковано к вопросу об увеличении погрузки и вывоза угля из Донбасса, поскольку даже важнейшие оборонные предприятия стали недополучать назначенное им топливо. При этом, вывоз угля хронически отставал от его добычи в течение всей войны, что приводило к неуклонному росту запасов на шахтах. Возникал парадокс. С одной стороны заводы и города задыхались без топлива, а с другой, оно валялось в огромных количествах на Донбассе.
Особое совещание по обороне в конце 1915 года характеризовало положение с топливом в Петрограде следующим образом: «Все заводы вообще перебиваются в отношении угля со дня на день, небольшая задержка в текущей доставке расстроит 60% заводских предприятий, в число коих войдут и такие крупные заводы, как Вестингауз, Путиловский, Невский судостроительный, Феникс, Вулкан и др. Причём на бездействие будут обречены до 20 тыс. станков и 85 тыс. рабочих. В частности, на Путиловском заводе уже произошла остановка работ на одной из мартеновских печей и для введения её вновь в действие потребовались экстренные меры.»
В значительно более трагичном положении оказался Московский промышленный регион. За сентябрь 1915 года он получил всего лишь 26% от минимальной потребности топлива, в октябре - 40%. Московские больницы уже в ту осень начали ломать и жечь деревянные заборы, а пекарни предупреждали «о неминуемой приостановке выпечки хлеба».
Снабжение топливом других районов находилось, по словам министра торговли и промышленности, «в столь неблагоприятных условиях», что пришлось потушить 23 доменные печи, что остановило 35% общего количества домен империи.
Проведением ряда экстренных мероприятий (например, использование запасов угля военно-морского флота или сокращения запасов железных дорог) удалось временно смягчить кризис и несколько выровнять положение дел.
С отгрузкой же донецкого топлива дело несколько улучшилось только в начале декабря 1915 года При этом, недогруз за декабрь в целом по стране составил 22%, а по Петроградскому району, например, он доходил до 51%, равняясь «за последние отчётные дни 75-90% минимально вычисленной суточной нормы» для города.
Между тем, промышленность начала переходить на мобилизационные рельсы; потребность в топливе неуклонно увеличивалась. Так, декабрьская заявка по Петрограду была больше ноябрьской на 25%, поскольку предприятия города лишь за последние месяцы 1915 года получили новых военных заказов на сумму 167,8 млн. руб.
На юге России, в крупном центре металлопромышленности, продолжали бездействовать 17 домен, например, из 6 домен Днепровского завода действовала только 1 (одна). Над оборонными заводами реально начала нависать угроза остаться без металла.
Министр торговли и промышленности Шаховской писал об этом времени: «...Топливный кризис охватил всю территорию страны, независимо от георграфического расположения отдельных её областей, что находит подтверждение и в факте общих для всей железнодорожной сети затруднений, в планомерном подтверждении грузов соответственно с экономическими нуждами различных областей.»
В своём докладе Николаю Второму в январе 1916 года Шаховской оценивал, что в ближайшие месяцы невозможно надеяться на перевозку более 110 млн. пудов угля в месяц, а минимальные потребности он оценивал в 130 млн. пудов.
Нельзя сказать, что Особое совещание по топливу не понимало всю опасность сложившейся ситуации и не пыталось предпринимать никаких принципиальных действий, которые должны были, если не решить, то хотя бы сильно ослабить возникший кризис.
Следует учесть, что в тот момент цены на уголь оставались вне регулирования Особым совещанием, которое могло скупать лишь излишки запасов и устанавливать реквизиционные цены.
Особое совещание по топливу констатировало:
«Не подлежит, однако, сомнению, что допущение свободной торговли топливом находилось в неустранимом противоречии с существующей системой его вывоза... Полагая, что признание решающего значения донецкого топлива для целей обороны - при остром недостатке угля в стране - влечёт за собою необходимость окончательного изъятия всего добываемого горючего из сферы свободного частного оборота, Особое совещание по топливу признало принципиально желательным сосредоточение продажи всего добываемого в Донецком бассейне твердого минерального топлива в руках казны.»
3 ноября 1915 года Совет министров разрешил председателю Особого совещания по топливу «объявить продажу добываемого в империи твердого и жидкого минерального топлива исключительном правом казны». Одно из принятых решений предусматривало, что всё твердое минеральное топливо, добываемое в Донбассе, сдаётся в казну и отпускается по распоряжениям Особого совещания, а владельцам предприятий остаётся ответственность за его погрузку и доставку, а также за вес и марку. По существу, это решение означало, что правительство брало на себя посреднические функции, выдавая наряды на поставку топлива потребителям.
Однако, обсуждался также второй проект решения, который предусматривал гораздо более полное распоряжение казны топливом. Была предпринята попытка осуществить полную реквизицию топлива, т. е. ввести государственную монополию на торговлю им. Эта попытка встретила упорное сопротивление и провалилась.
Против реквизиции выступил как Центральный военно-промышленный комитет, так и резко отрицательно высказались углепромышленники и «свыше 80% потребителей», в том числе частные железные дороги и металлургические заводы.
По мнению тогдашних хозяев жизни, монополия не установила бы «коренной причины» кризиса топлива, которая сводилась ими сугубо к расстройству транспорта, и поэтому, по их мнению, гос. закупки не могли восполнить потребителям нехватку угля. Каких-нибудь более серьёзных аргументов в защиту своих позиций более приведено не было.
Тем не менее, правительство уступило нытью углепромышленников и иже с ними и отказалось от осуществления намеченной меры. В отчёте говорилось: «Особое совещание по топливу вынуждено было отказаться от осуществления проекта общей реквизиции...». Казна сохранила за собой лишь право частичной реквизиции топлива, которое приходилось применять в весьма существенных размерах.
Иногда такое ощущение возникает, что, хоть и прошло уже почти сто лет, но ничего в нашей буржуазии не изменилось. По крайней мере, к лучшему.
Для улучшения снабжения потребителей углём 11 ноября 1915 года были утверждены новые правила распределения минерального топлива Донецкого бассейна. Все потребители угля делились на пять групп. К первой относились железные дороги, флот, все казённые заводы военного и морского ведомств, частные и казённые заводы, изготавливающие взрывчатые вещества и материалы для них, металлургические заводы, коксовые печи. Остальные потребители делились на дополнительные четыре группы.
Всё бы было ничего, но эта новая система имела, кроме всего прочего, один серьёзный недостаток: в случае нехватки вагонов первоочередные потребители всё-таки хоть как-то что-то получали, а потребители, например, с третьей по пятой групп, как правило, оставались вообще без топлива.
В связи с таким положением дел, в марте 1916 года порядок был изменён на съезде уполномоченных Особого совещания по топливу. Всё топливо делилось на три группы, из которых группа «А» подлежала безусловному удовлетворению по всем пяти разделам потребителей; эта часть наряда являлась твердо забронированной. Группам «Б» и «В» уголь же отгружался при благоприятных условиях, при наличии остатков.
Новые правила вводились с 9 мая 1916 года. Однако и эта система никак не дотягивала до идеальной. Дело в том, что существовал огромный разрыв между заявками на вагоны со стороны рудников и назначениями Харьковского комитета. До войны было более-менее нормально, но уже в 1914 году разрыв достигал 234 тыс. вагонов, в 1915 - 1305 тыс. вагонов (не хватало вагонов больше, чем было погружено), а в 1916 - 1568 тыс. вагонов (в то время, как погружено было 1360 тыс. вагонов). Эта разница между количеством назначенных вагонов и реально отгруженных открывала необъятные возможности для всяких оптимизаторов, эффективных менеджеров и прочих коррупционных составляющих чрезвычайно дезорганизовавших и так трещащий по швам рынок.
Неимоверными усилиями топливный кризис конца 1915 - начала 1916 года удалось некоторым образом купировать, не доведя всё-таки дело до полного развала. О том, что же происходило в 1916 году - в продолжении.