347. СОСИПАТЫЧ (окончание)
3. Мусора из «Динамо»
Ни Солоневич, ни его жена и сын не репрессировались советской властью. Устроены они были хорошо, жили в столичном городе, не бедствовали. Прожили при новом режиме 15 лет без пушинки. КАК ВДРУГ. Вдруг Солоневичи летом 1933 года решили бежать в Финляндию. Втроём: Иван, его сын и брат. Выехали из Москвы в Питер, арестованы по доносу и посажены в лагерь.
Ладно, бывает. Случай вполне правдоподобный. Действительно, что делать культурному человеку в полудиком СССР? Но это только начало истории. Англичане мастера писать заковыристые фэнтези. Это у русских всё «Смерть Ивана Ильича» да «Один день Ивана Денисовича».
Теперь слушайте внимательно. Через год, в августе 1934 года, Иван Солоневич бежит из сталинского концлагеря и... переходит советско-финскую границу. То есть, год назад Солоневича на дальних подступах к финской границе арестовывают. А через год он, НАХОДЯСЬ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, умудряется пересечь ту же финскую границу. Фантастика? Нет. Это только ЗАЧИН фантастического романа.
Во-вторых, Солоневич пересекает границу не один, а с сыном. Вместе бежали из лагеря!
В-третьих, вы будете смеяться, но одновременно из лагеря бежит и брат Солоневича, Борис. И отдельно, с разницей в два дня пересекает финскую границу.

Вот они, «русские богатыри»:
Чалкин, Малкин и Залкинд
В-четвёртых, что за время, которое отважные скауты выбрали для побега? Только что, в июне 1934 года в СССР принят закон, карающий пересечение границы не тюремным заключением, а СМЕРТНОЙ КАЗНЬЮ. В стране идёт кампания борьбы с перебежчиками. Все границы перекрыты, вдоль них рыскают отряды гепеушников с собаками. И в первую голову под контроль взята финская граница: рядом Питер и карельские лагеря. А тут по территории Карелии БЕГЛЫЕ две недели спокойно добираются до границы и оную переходят безо всяких проблем.
Но есть ещё и «в-пятых». Так сказать, «контрольный выстрел». По странному стечению обстоятельств жена Солоневича в момент побега супруга работает в советском торгпредстве в Берлине. Счастливый муж из Хельсинки посылает ей телеграмму, она высылает ему денежный перевод и становится невозвращенкой. Вопросы есть? Как жена «врага народа» может работать за границей?
Кстати, «кто у нас жена»? Оказывается... племянница одиозного черносотенца и антисемита Шмакова, писавшая корреспонденции по делу Бейлиса. Плюс дочка офицера и дворянка. Плюс жена «врага народа».
Сама «племянница» объясняла своё появление на Западе фиктивным браком с иностранцем, благодаря которому «вырвалась», потом «устроилась» и т.д. Вот кстати и фото антисемитки, которую по её воспоминаниям высокопоставленные советские чиновники еврейского происхождения уважительно звали «юдишер копф»:

Работа у «племянницы Шмакова» была интересная: принимать иностранные делегации в СССР. В основном английские. Хотя не только. Например, ей доверили сопровождать вдову Карла Либкнехта.
О прочем можно не говорить, хотя «прочего» много. (Например, в 1933 семейке Солоневичей дали детский срок и устроили лагерными придурками. А ведь три человека эта «антисоветская организация», при аресте у Солоневича НАШЛИ ОРУЖИЕ, которое КОНТРАБАНДОЙ ПРИВЕЗЛИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. Что же должны были сделать с бывшим сотрудником черносотенного «Нового времени»» при таких обстоятельствах? Самому - «высшую меру социальной защиты», подельникам - червонец. БЕЗ ВАРИАНТОВ.)
Как к «явлению Солоневича» отнеслись в эмиграции? Да очень просто. Главной организацией русской эмиграции был РОВС, у РОВСа была контрразведка. Там сидели ПРОФЕССИОНАЛЫ. Они даже и смотреть особо не стали: брат Солоневича Борис работал в «Динамо». Понимающе переглянулись, хохотнули: «Мусора с кубарями приехали». Поставили в графе отметку: «Сотр. ОГПУ». Всё.
4. Россия в концлагере, а Солоневичи - в Париже
Итак, серьёзные люди с самого начала поставили на Солоневичах крест. БОЙКОТ. Но, как известно, дуракам закон не писан. Тем более в карнавалистской эмигрантской жизни. Солоневич с места в карьер стал сотрудничать с парижской газетой Милюкова «Последние новости», где за полтора года опубликовал более сотни материалов, объединённых в книгу «Россия в концлагере». Успешность статей и особенно книги, переведённой на несколько языков, принесли семейству известность и материальный достаток.
Что касается содержания, то «Россия в концлагере» написана живо и со знанием предмета. Видимо годик Солоневич посидел не только для подтверждения легенды, но и для сбора материала. В то же время никаких новых данных, ни для западной публики, ни тем более для эмигрантского читателя, в книге не было. Речь шла об описании тяжелого советского быта, быта азиатского государства, пыжащегося проводить европейскую модернизацию. С китайской бестолковщиной и китайской же жестокостью. Вкусных иллюстраций в книге не было. А вот проколов предостаточно. Конечно не для милюковых, а для людей вменяемых. Например, описывая московский голод 1930 года, Солоневич в стиле хи-хи ха-ха описал, как он питался в основном картошкой и чёрной икрой. Про картошку понятно, а икру де он покупал дуриком в торгсине:
«Каждый из иностранцев получал персональную заборную книжку, в которой было проставлено, сколько продуктов он может получить в месяц. Количество, это колебалось в зависимости от производственной и политической ценности данного иностранца, но в среднем было очень невелико. Особенно ограничена была выдача продуктов первой необходимости - картофеля, хлеба, сахару и пр. И наоборот, икра, сёмга, балыки, вина и пр. отпускались без ограничения. Цены же на все эти продукты первой и не первой необходимости были раз в 10-20 ниже рыночных.
Русских в магазин не пускали вовсе. У меня же было сногсшибательное английское пальто и «неопалимая» сигара, специально для особых случаев сохранявшаяся.
И вот, я в этом густо иностранном пальто и с сигарой в зубах важно шествую мимо чекиста из паршивеньких, охраняющего этот съестной рай от голодных советских глаз. В первые визиты чекист ещё пытался спросить у меня пропуск, я величественно запускал руку в карман и ничего оттуда видимого не вынимая, проплывал мимо. В магазине все уже было просто. Конечно, хорошо бы купить и просто хлеба; картошка даже и при икре всё же надоедает, но хлеб строго нормирован и без книжки нельзя купить ни фунта. Ну, что ж. Если нет хлеба, будем жрать честную пролетарскую икру».
Почему этот кэвээн был придуман автором, понятно. Солоневич и его жена имели контакты с иностранцами (подумайте, КТО в тогдашней России мог постоянно контактировать с иностранцами), «западники» его вполне могли видеть в торгсине, покупающим дефицитные деликатесы. Чтобы упредить разоблачающие воспоминания, он и придумал «хи-хи ха-ха». Таких проколов в книге много. Журналист он и есть журналист.
Следует указать ещё на одну черту «России в концлагере», весьма печальную. Там явно прослеживаются солжениценовские нотки. Если люди друг на друга похожи, значит они сделаны государством. Сидит осьминог, перебирает картотеку, ищет нового «Золоньевитча». Воленс-ноленс подбирает кандидатуру «Зольжьеницина», а не «Ивьянова» или «Арьистархьёва». Таковы особенности мышления по аналогии.
5. Борьба с неразумно правыми
Работа Солоневича в «Последних новостях» была нужна для натурализации в среде русской эмиграции и для легализации полученных от ОГПУ средств. Вредительской задней мысли в цикле статей не было. Наоборот, объективно «Россия в концлагере» работала против большевиков. Но вот дальше...
Дальше Солоневич окунулся в эмигрантские дрязги и стал вносить раскол между руководством РОВСа и его рядовыми членами. Возникло т.н. «движение штабс-капитанов». Генералитет Общевоинского Союза изображался Солоневичем в виде оторванной от основной массы офицеров касты «тысячнегов». «Тысячнегам» он собирался противопоставлять автономные ячейки младших офицеров, которые совершенно серьёзно называл «берлогами штабс-капитанов». В общем, смешно, но в социальной и информационной ситуации того времени это выглядело (и являлось) трагедией для многих и многих людей. В конце концов, расписавшийся «жижист» белых так достал, что они решили его убить.
Акция произошла 3 февраля 1938 года. В редакции газеты Солоневича была взорвана бомба. Однако Солоневич не пострадал. На куски был разорван его секретарь и смертельно ранена жена. Перед покушением белогвардейцы провели дополнительное расследование. Председатель Общества Галлиполийцев Зенкевич, находясь в Софии, получил фотографии брата Ивана Солоневича Бориса, сделанные болгарской разведкой в момент передачи им документов доказанному большевистскому агенту (Борис Солоневич тоже занимался публицистикой и издал книгу о скаутском движении в Советской России - лживую и пустую.)
После покушения Иван Солоневич спешно уехал из Болгарии в Германию, где пробыл до окончания войны. О его жизни в этот период известно мало - очередной пробел. Затем он уезжает в Аргентину, где издаёт главный орган русской монархической эмиграции - газету «Наша страна». Газета выходит до сих пор.
Особо о взглядах Солоневича писать нечего. Вонючка она и есть вонючка. Дореволюционный провинциальный журналист, занявшийся комсомольским политиканством, завербованный серьёзными дядями и потом всю жизнь строивший из себя скомороха. Приведу лишь пару образчиков «штиля»:
«Совершенно естественно, что методы насилия остаются одними и теми же: Преображенский приказ и ОГПУ, посессионные крестьяне и концентрационные лагеря, те воры, которых Петр приказывал собирать побольше, чтобы иметь гребцов для галер, и советский закон от 8 августа 1931 года, вербовавший рабов для концентрационных строек; безбожники товарища Ярославского, и всепьяннейший синод Петра, ладожский канал Петра (единственный законченный из шести начатых) и Беломорско-Балтийский канал Сталина, сталинские хлебозаготовители, и 126 петровских полков, табель о рангах у Петра и партийная книжка у Сталина, - голод, нищета, произвол сверху и разбой снизу. И та же, по Марксу, «неуязвимая» Россия - «неуязвимая» и при Петре, и при Сталине, которая чудовищными жертвами оплачивает бездарность гениев и трусость вождей. Все это, собственно говоря, одно и то же. Здесь удивительно не только сходство. Здесь удивительно то, как через двести лет могли повториться те же цели, те же методы, и - боюсь - те же результаты. И мы, современники гениальнейшего, можем оценить Петра не только по страницам Ключевского и Соловьева, а и по воспоминаниям собственной шкуры. Это, может быть, не так научно. Но это нагляднее. Как нагляден был портрет Петра Первого, висевший в кабинете Сталина».
И так всю дорогу. Жонглирование фактами, почерпнутыми из газет и гимназического учебника по истории, и невыносимая «советская» демагогия: «сволочи», «богатенькие», «подгребли под себя науку», «учёные, на дерьме печёные», «я ниверьситетов не кончал, из крестьян».
Правда, можно сказать, что перед нами не историк, а политик, политик часто притягивает факты за уши и использует сомнительные аналогии. Но какая к чёрту политическая доктрина из «народной монархии». Сколько человек можно собрать под знамя сего круглого квадрата? Разве что близких родственников. С одной стороны перед человеком пляшут в демократическом армяке, а затем - вытаскивают из нафталина провонявшего «Алексея Михайловича» - полулегендарного деспота трёхсотлетней давности, и требуют перед ним расшибать лоб вместо оплёванных европейских царей 18-19 вв. Тут уж покрутят пальцем у виска и отойдут в сторону все - от аристократов до бомжей.
И тем не менее, некий позитивный тезис, некая мыслёнка, ради которой городится огород, есть и у Солоневича. Проходит пунктиром через всё его творчество. Вот она:
«В неразумно правых кругах имеет хождение вариант об «английской интриге» во время февральской революции. С.Ольденбург этому варианту не верит: «Весьма мало правдоподобно, чтобы Англия, особенно в такой момент, когда исход войны еще не определился, отважилась бы на СТРАШНЫЙ РИСК крушения великой союзной державы». М.Палеолог отрицает «английскую интригу» самым категорическим образом и в качестве иллюстрации ссылается на совершенно такую же ЛЕГЕНДУ о той же английской интриге, связанную с цареубийством 11 марта 1801 г. Легенду об интриге лорда Уитворта М.Палеолог обрывает самым простым образом - указанием на то, что лорд Уитворт покинул Россию почти за год до убийства Императора Павла Первого. В отношении к Февралю такой способ исключается - сэр Бьюкенен оставался в России очень долгое время и после революции. Однако все указания на «английскую интригу», в том числе и указание ген. Спиридовича, носят замечательно расплывчатый характер. С таким же основанием можно ссылаться на йогов, магов, волшебников и прочих людей того же сорта. НИ ОДНОГО конкретного факта я нигде в литературе не нашел. И кроме того, если даже и была «интрига», то «интрига» распоряжалась русскими генералами, как пешками. Теория политической ошибки может дать «смягчающее вину обстоятельство». Теория «английской интриги» не дает НИКАКОГО. Люди, оперирующие этой последней теорией, просто не дают себе труда ДОДУМАТЬ дело до конца: английская интрига - это значит английское золото. О цареубийстве 11 марта так и говорилось: английское золото. О перевороте Февраля говорится туманнее: просто «интрига». Каким именно способом могла «английская интрига» подчинить себе русский генералитет - об этом, кажется, не говорил никто. Можно как угодно выворачивать наизнанку роковые события Февраля, но, - если придерживаться точки зрения «английской интриги», это будет означать, что русские генералы продали Русского Царя по приказу иностранного посольства. Это, конечно, будет намного хуже политической неграмотности».
Это уже не ОГПУ, а, так сказать, «Шпигель». Есть местечко у Солоневича в мемуаре:
«У Юры (сын Солоневича) была странная смесь оптимизма с пессимизмом. Он считал, что и из лагеря в частности и из советской России вообще (для него советский лагерь и советская Россия были приблизительно одним и тем же), у нас все равно нет никаких шансов вырваться живьем. Но вырваться все-таки необходимо. Это - вообще. А в каждом частном случае Юра возлагал несокрушимые надежды на так называемого Шпигеля.
Шпигель был юным евреем, которого я никогда в глаза не видал и которому я в свое время оказал небольшую, в сущности пустяковую и вполне, так сказать, заочную услугу. Потом мы сели в одесскую чрезвычайку - я, жена и Юра. Юре было тогда семь лет. Сели без всяких шансов уйти от растрепа, ибо при аресте были захвачены документы, о которых принято говорить, что они «не оставляют никаких сомнений». Указанный Шпигель околачивался в то время в одесской чрезвычайке. Я не знаю, по каким, собственно, мотивам он действовал. По разным мотивам действовали тогда люди. К не знаю, каким способом это ему удалось. Разные тогда были способы. Но все наши документы он из чрезвычайки утащил; утащил вместе с нами и оба наши дела, и мое и жены. Так что, когда мы посидели достаточное время, нас выпустили вчистую, к нашему обоюдному и несказанному удивлению. Всего этого вместе взятого и с некоторыми деталями, выяснившимися значительно позже, было бы вполне достаточно для голивудского сценария, которому не поверил бы ни один разумный человек.
Во всяком случае, термин «Шпигель» вошел в наш семейный словарь. И Юра не совсем был не прав. Когда приходилось очень плохо, совсем безвылазно, когда ни по какой человеческой логике никакого спасения ждать было неоткуда, Шпигель подвертывался».
Ох уж эти загадочные цыгане. Не поймёшь, что у них на уме. Как иррационально действуют. И как ловко. Например, Василий Витальевич Шульгин ехал на поезде по дореволюционной Галиции, в вагон к нему вошёл цыганский барон и сказал: «Ви будете смеяться, но ми пгиняли рещение, что ви будете жить у сто лет». Шульгин жил и смеялся. Девяносто восемь. Такие сильные цыгане. СЛОВО знают. Кстати, знаете, что было бы, если вместо Фунта к Бендеру пришёл Шульгин? Его последний монолог имел бы дополнительный запас прочности:
- Революция это Шульгин, и отречение это тоже Шульгин, и гражданская война это Шульгин. Но господа, я хотел как лучше, я не виноват. Это всё цыгане. Мне это в них не нравится.
Похоронили Солоневича в 1953 году в столице Уругвая. На английском кладбище. Это конечно не совпадение, а символ. Упрыгался, чёрт лысый.
И, наконец, о чёрте. Думаю, не последнее место в карьере Солоневича сыграла его уродливая внешность. Русский националист должен выглядеть отталкивающе:
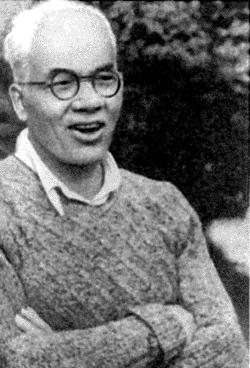
Под влиянием созданного ЧКГБ образа, я в своё время сконструировал имидж Сосипатыча:
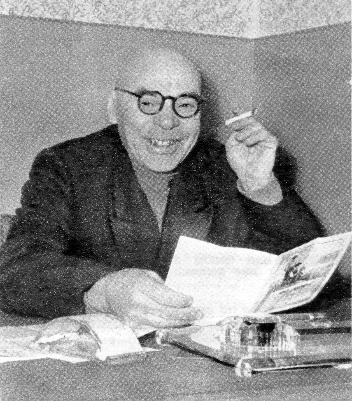
По-моему, похож.
Я бы мог о Солоневиче рассказать гораздо больше. Например, я оставил за кадром его братца, который был, на мой взгляд, гораздо круче (разумеется, не как публицист). Например, он счастливо сочетал должность старшего скаутмастера СССР с должностью инспектора физподготовки штаба Военно-морского флота. Как «дядя Боб» куролесил в эмиграции - отдельная тема. Там есть даже некоторые эстетические закругления: он обвинил Солженицына в том, что тот агент КГБ и послан на Запад для разложения русской эмиграции. Скажу о другом. Перестройка-постперестройка проходила на моих глазах. Так получилось, что между мной и окружающими всегда существовал информационный зазор. И я хорошо видел «ввод темы». Кто чего хочет, почему и как. Солоневича всё время пропихивали люди из органов. Весьма целенаправленно.