Ольга Берггольц: Блокадные дневники
Собирался это постить к Дню снятия ленинградской блокады, потом ко Дню Победы, но получается только сейчас..
А за это время и книга уже оказывается вышла! (read.ru/id/507030), и отрывки в инете опубликованы (www.rg.ru/2010/04/21/bergolc.html).. Вот оно, значит, как быть тормозом-то!:))
Но, все равно, у меня тут поболее текста гораздо будет, чем в тех отрывках!:).. Да и вообще, не зря ж я все это готовил..:) Так что, читайте!:)
Ольга Берггольц (16(03)/05/1910 - 13/11/1975) известна своими пламенными выступлениями по радио в осажденном Ленинграде, своим стихотворным блокадным "Февральским дневником" и, конечно же, своей крылатой фразой, завершающей эпитафию жертвам Блокады на Пискаревском мемориале - "НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО"..
Но вот мало кто знаком с другим ее дневником, личным, который вела Ольга Фридриховна (или, как ее принято почему-то называть - Федоровна) исключительно для себя и куда могла уже записывать безоглядно все мучившие ее мысли и чувства..
Я их прочел случайно, в случайно же купленном 20 лет назад "литературно-художественном и общественно-политическом альманахе" Апрель - вып 4, 1991г, (было же время!)..
Строки из того дневника были одними из самых пронзительных, что мне довелось читать о Блокаде.. (во всяком случае, на тот момент). Особенно впечатлило описание животного ужаса, нападающего на человека во время бомбежек и обстрела..
О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унизительное ощущение - этот физический страх...
Нет, нет - как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело - так, что каждый бы думал: «Это мне» - и умирал заранее. Умер - а она пролетела, но через минуту будет опять - и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание - воскресает, чтоб умирать вновь и вновь. Доколе же? Хорошо - убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню... О-о, боже мой!
Ну и вообще, много другого чего интересного там имеется..
Дневник этот велся, разумеется, тайно и даже однажды (в штурм города) был закопан. Вот концовка письма от 26/IX-41 г., переданного в Москве сестре Ольги Берггольц (кто и подготовил к печати эти дневники) через Анну Ахматову (О. Берггольц помогла ей эвакуироваться):
«Мусинька, на всякий случай - только на всякий случай - знай, мои дневники и некоторые рукописи в железном ящике зарыты у Молчановых, Невский, 86. В их деревянном сарайчике. Может быть, когда-нибудь пригодятся».
Впоследствии О. Берггольц взяла из тайника дневники, продолжала их вести и хранила дома.
Дневник Ольги Берггольц в инете кажется не выкладывался, хочу восполнить этот пробел. Дам лишь прежде несколько биографических пояснений к именам, встречающимся в тексте:
Отец - Фридрих Берггольц, врач. Умер 07/11/1948, меньше чем через год после освобождения из лагерей.
Мама - Мария Тимофеевна Берггольц (1887-1957).
Борька - Борис Петрович Корнилов, поэт, первый муж О. Берггольц (расстались в 1930 г.). Репрессирован, погиб в 1937 году.
Колька - Николай Степанович Молчанов, второй муж О. Берггольц. После срочной службы на Кушке у Н. Молчанова возникли эпилептические припадки. Однако уже в первые дни войны он ушел на фронт, но был комиссован в конце июля или начале августа 1941 года. Умер от голода в Ленинграде 29/01/42.
Юра - Юрий (Георгий) Пантелеймонович Макогоненко (1912-1986), в блокадные годы редактор Радиокомитета. Третий муж О. Берггольц. Подробнее о нем тут - www.lebed.com/2003/art3396.htm
Яша - Яков Львович Бабушкин, худрук Радиокомитета. Провел своей волей запрещенную к эфиру Шумиловым радиопередачу «Февральский дневник» (стихи Ольги Берггольц о положении в Ленинграде), за что был уволен и разбронирован. Погиб под Нарвой.
Капустин Я. Ф., Шумилов Н. Д., Маханов А. И. - партийные функционеры из Ленинградского обкома.
Ольга БЕРГГОЛЬЦ
Блокадный дневник
2/IX-41
Сегодня моего папу вызвали в Управление НКВД в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа - военный хирург, верой и правдой отслужил Сов. власти 24 года, был в Кр. Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия - это без всякой иронии.
На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда.
Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути! Это значит, что старик и подобные ему люди (а их, кажется, много - по его словам) либо будут сидеть в наших казармах, или их будут таскать в теплушках около города под обстрелом, не защищая - нечем-с!
Я еще раз состарилась за этот день.
Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем виноваты.
Сейчас - полное душевное отупение. Ходоренко обещал позвонить Грушко (идиот нач. милиции), а потом мне - о результатах, но не позвонил.
Значит, завтра провожаю папу. Вижу его, видимо, в последний раз. Мы погибнем все - это несомненно. Такие вещи, как с папой, - признаки абсолютной растерянности предержащих властей...
Но что, что же я могу сделать для него?! Не придумать просто!..
(Примечание сестры О. Берггольц: "Я остановлюсь на первой записи (2/IX-41 г.), то есть на истории нашего отца, так как это было одним из трех «добавочных ударов» по Ольге во время блокады: смерть мужа, Николая Молчанова, высылка отца и снятие т. Шумиловым передачи по радио ее поэмы - Февральский дневник».
Эта запись сделана явно еще только по телефонному звонку папы, когда Ольга не знала сути того, что произошло. А произошло вот что: отца вызвали в НКВД и предложили стать стукачом (сексотом). Он с брезгливостью отказался: «Это не моя профессия!» Стали пугать - он не испугался. Тогда негодяй (пока еще не знаю его фамилии или клички!) обмакнул перо в тушь, перечеркнул папин паспорт и вписал в него 39-ю статью!")
5/IX
Завтра батька идет к прокурору - решается его судьба. Я бегала к т. Капустину - смесь унижения, пузыри со дна души и т. п. Вот - заботилась всю жизнь о Счастье Человечества, о Родине и т. д., а Колька мой всегда ходил у меня в рваных носках, на мать кричала, и никого, никого из близких, родных как следует не обласкала и не согрела, барахтаясь в собственном тщеславии, теоретическом, выдуманном.
Ленинград, я еще не хочу умирать!
У меня телефонов твоих номера,
Ленинград, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса...
(Мандельштам)
Но за эти три дня хлопот за отца очень сблизилась (кажется) с Яшей Бабушкиным, с Юрой Макогоненко. О, как мало осталось времени, чтоб безумненько покрутить с Юрой, а ведь это вот-вот, он даже злился на меня сегодня, и, переглядываясь с ним, вдруг чувствую давний хмельной холодок, проваливаюсь в искристую темную прорубь...
Это, я знаю, любовь к любви, не больше. Он славный, но какое же сравнение с Колькой?! Но он очень мил мне.
А город сегодня обстреливали из артиллерии, и на Глазовой разрушено три дома, и на др. улицах тоже. Я узнала это уже вечером.
Смерть близко, смерть за теми домами.
Как мне иногда легко и весело от этого бывает.
8/IX-9/IX
В ночь на 7/1Х на Л-д упали первые бомбы, на Харьковской. В это время (23.25) мы были у меня - я, Яша, Юра М. и Коля. Потом мы пили шампанское, и Юра поцеловал мне указательный палец, выпачканный в губной помаде. Вчера мы забрались в фонотеку. Слушали чудесные пластинки, и он так глядел на меня. Даже уголком глаза я видела, как нежно и ласково глядел.
Сегодня, в 22.45, был налет на Л-д, я слышала, как свистели бомбы - это ужасно и отвратительно. Все 2 ч. тревоги у меня тряслись ноги и иногда проваливалось сердце, но внешне я была спокойной. Да и сознанием я ничего не боялась, а вот ноги тряслись - б-р-р...
После тревоги (бомбы свищут ужасно, как смерть!) я позвонила в [Дом] радио, Юра говорил со мной... лояльно.
Я хочу успеть. Дай мне еще одно торжество - истинное и превосходящее любую победу, дай мне увидеть его жаждущим, неистовым и счастливым. Это немногое, о чем я прошу тебя перед свистящей смертью.
Я не прошу тебя о Коле, потому что мы погибнем вместе - я у подъезда, он на крыше. Мы ведь не прячемся в землю, когда они свистят. И ведь еще одно, и мы - вся Жизнь.
Мне надо к завтрему написать хорошую передовичку (...). Я обязательно должна написать ее из самого сердца, из остатков веры.
Сейчас мне просто трудно водить пером по бумаге. И все же вожу - есть мысли, завтра окончательно оформлю. Хуже всего, что с утра тюкает в голову - ужасно, как весной. Только бы не это, а то выйду из строя.
Начав работать, совершенно остыла к Юре.
Я знаю, что Юра - блажь, защита организма, рассредоточение, и только.
12/IX
(Они прилетели в 9.30, но у нас не грохало.)
Без четверти девять, скоро прилетят немцы. О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унизительное ощущение - этот физический страх.
И все на моем лице отражается! Юра сегодня сказал: «Как вас свернуло за эти дни», - я отшучиваюсь, кокетничаю, сержусь, но я же вижу, что они смотрят на меня с жалостью и состраданием. Опять-таки, это меня злит из-за того, что я не хочу потерять в глазах Юры. Выручает то, что пишу последнее время хорошие (по военному времени) стихи, и ему нравится.
Он и Яшка до того «проявляют чуткость», что я сегодня, кажется, их обидела, заявив, что не нуждаюсь в ней.
Но, боже мой, я же знаю сама, что готова рухнуть. Фугас уже попал в меня.
Нет, нет - как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело - так, что каждый бы думал: «Это мне» - и умирал заранее. Умер - а она пролетела, но через минуту будет опять - и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание - воскресает, чтоб умирать вновь и вновь. Доколе же? Хорошо - убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню... О-о, боже мой!
Сегодня в 9.30, когда начала писать, они вновь прилетели. Но бухали где-то очень далеко. Ложусь спать - а может быть, они будут через час? Через 10 минут? Они не отвяжутся теперь от меня. И ведь это еще что, эти налеты! Видимо, он готовит нечто страшное. Он близко. Сегодня на Палевском в дом как раз напротив нашего дома попал снаряд, много жертв.
Я чувствую, как что-то во мне умирает.
Когда совсем умрет - видимо, совсем перестану бояться. Нет, я держусь, сегодня утром писала и написала хорошее стихотворение, пока была тревога, артобстрел, бомбы где-то вблизи... Но ведь это же ненормально! Человек должен зарыться в землю, рыдать, как маленький, просить пощады. Правильнее бы всего - умертвить себя самой. Потому что кругом позор, «жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен»... Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб, некуда. Это называлось - «мы готовы к войне».
О, сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи!
Боже, опять надвигается ночь,
И этому не помочь.
Ничем нельзя отвратить, темноту,
Прикрыть небесную высоту...
13/IX
О, как грустно, как пронзительно грустно.
Уже почти не страшно - это неплохо, но грустно - именно не тоска, а покорная, глубокая, щемящая грусть. Как о ком-то милом, но очень близком, с кем давно разлучился.
Десять часов, скоро будет тревога.
Сегодня весь день артиллерийский обстрел, и сейчас где-то грохает, но это похоже на нашу. А в половине седьмого, когда я сидела в райкоме, во Дворец пионеров попал артснаряд, и осколок влетел к нам в комнату, разбив стекло. (Я сказала, будто сидела под этим окном, но я сидела под соседним. Похвасталась, как дура, - смешное тщеславие.)
Снаряды ложились на площади Нахимсона, это за несколько домов от нас.
Вчера у меня ночевала Люся, так как на Палевском против нашего дома упал снаряд и стекла в нашем доме вылетели. В этом доме я родилась, жила до 20 лет, здесь был Борька, здесь родилась Ирка. Теперь по нему стреляют.
Ну как же не будет чувства умирания? Умирает все, что было, а будущего нет. Кругом смерть. Свищет и грохает...
А на этом фоне - жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно. Напр., сегодняшнее собрание. Хлеб ужасно убавили, керосин тоже, уже вот-вот начнется голод, а недоедание - острое - уже налицо... Да ведь люди скоро с ног падать начнут!.. Конечно, осажденный город и все такое, но, боже мой, как же довели дело до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена! Ведь немцы все идут и идут вперед, сегодня напечатали, что сдан Чернигов, говорят, что уже сдано Запорожье - это почти вся Украина.
У нас немцами занят Шлиссельбург, и вообще они где-то под Детским Селом...
О, неужели же мы гибнем?
Неужели я уже сдалась - иначе откуда же эта покорная грусть, - и подобно мне сдались также тысячи ленинградцев. Эта грусть, эта томительная усталость - она и у Коли, и, я по глазам вижу, - у Яшки, у многих...
Она еще оттого, что, собственно, ты лишен возможности защищать и защищаться. Ну, я работаю зверски, я пишу «духоподъемные» стихи и статьи - и ведь от души, от души, вот что удивительно! Но кому это поможет? На фоне того, что есть, это же ложь. Подала докладную на управхоза, который не обеспечивает безопасность населения, но кем заменишь всех этих Цырульниковых, Соловьевых, Прокофьевых и пр. - все эти кадры, «выращенные» за последние годы, когда так сладострастно уничтожались действительно нужные люди?
Ничтожность и никчемность личных усилий - вот что еще дополнительно деморализует... Нам сказали - «создайте в домах группы в помощь НКВД, чтоб вылавливать шептунов и паникеров». Еще «мероприятие»! Это вместо того, чтоб честно обратиться к народу вышестоящим людям и объяснить что к чему. Э-эх! Но все-таки сдаваться нельзя! Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота...
Вот что убивает!..
Но дело обстоит так, что немцев сюда пускать нельзя. Лучше с ними не будет - ни для меня, ни для народа. Мне говорят, что для этого я должна писать стихи и все остальное.
Хорошо, хоть это мучительно трудно - буду.
Попробую обеспечить подвалом наших жильцов.
А самой мне во время бомбежки надо быть «на посту», в трухлявом беззащитном доме, надеясь только на личное счастье - авось не кокнет фугасом...
Артиллерия садит непрерывно, но теперь дальше от нас... Буду сейчас работать - стишок и начало очерка для Юры, затем для спецвещания.
17/IX
Сигнал В.Т.
Теперь тревог на дню раз по 8 - 10, и я уже не каждый раз, когда дома, сбегаю вниз - совершенно нельзя работать. А мне надо написать очерк о командирах производства для Юры - о моих слушателях. Мой Васильев" погиб - господи, какой это ужас, когда узнаешь о гибели знакомого человека. (Тихо, не слышно даже зениток - странно.) Немцы третьего дня, обойдя Детское, были под Пулковом. Третьего дня ими была занята Стрельна. Это, собственно, в черте города. Партия поставила вопрос о баррикадных боях, в Доме радио создан отряд, где Яшка комиссар, для защиты их улицы.
Аж руки опускаются от немого удивления - да как же допустили до всего этого... (На большой высоте идут чьи-то самолеты.)
Организм защищается безумно: просто не могу думать, "что город будет взят, убьют Колю, Юрку, Яшку, что я не буду приходить в радио, радоваться Юре и малейшим знакам его внимания, сердиться, что он медлит (не потому ли, что в хороших отношениях с Колей, или просто не влюблен ничуть?), что не будет, вдруг не будет всей этой жизни. Настолько не верю в иное, что даже последние дни спокойна: «вздор, ничего не случится».
Но это самозащита организма, я знаю.
Кольцо вокруг Ленинграда почти неудержимо сжимается.
Мы еще счастливы, что их от Пулковато чуть-чуть отогнали. О, бедные мы, бедные. Да еще эта ориентировка на уличные бои - да ведь это же преступление, это напрасная кровь, этим ничего уже нельзя будет изменить. Да и драться-то люди не будут, кроме отдельных безумцев, самоубийц...
Кажется, трагедия Ленинграда (залпы зениток, не сойти ли вниз - это рядом, над головой немец) приближается к финалу.
Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу - пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления - казалось, что она осуществима. О том, как потом политика сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немыслимой, удушающей лжи (зенитки палят, но слабо, самолеты идут на очень большой высоте - несомненно, прямо над моей головою. Не страшно ничуть. «В меня не попадет, почему именно в меня, зачем я им») -годы страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории и видели, что на практике, в политике - все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедающей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невиновности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили себя, и дико, отчаянно пытались верить. (Ох, это немец... Да, по нему пальнули. Он опять над нашим домом, очень высоко, но над нашим... Тоненький свист... бомба? Нет... Бросило в жар... Нет, нет, не бомба... Это немец - почему его не преследуют? Или наш? Взрывов не слышно...)
Зачем я тороплюсь записать все это - все равно я ничего не успела. Т.т. - знайте, я ничего не успела, а могла бы - много!
А Юру хотят забрать «политбойцом» на фронт - ой, не хочу, не хочу, не хочу... И глупо это до бесконечности, как... все, что есть.
Я могла бы жить в Доме радио, работать и спать в хорошем бомбоубежище, но я не иду туда без Коли - стыдно и позорно бросать вернейшего товарища в трухлявом доме, а самой спасаться. А его туда нельзя из-за диких его припадков, он будет пугать и без того измотанных людей. (Самолет смолк.)
Мы будем у мамы. Мне совестно тоже, что я, политорганизатор дома, ухожу из него. Но, черт возьми, я же здесь абсолютно бесполезна, на 100 % бесполезна, моя санитарная сумка и прочее - это та же видимость, та же ложь, что была и есть повсеместно. И стыдно отказываться даже от этой видимости - такова инерция подчинения уже отрицаемой системе. Но - очень стыдно. Не знаю, что и делать. Конечно, надо позаботиться о себе - хотя бы во имя того, что ведь знаю: смогу, смогу принести истинную пользу людям. А стыдно. (Опять низкий рокот самолета над самой головой - все-таки, наверное, это наш, по нему не бьют... А напротив моего окна прямо на крыше сидит мальчишка... Ну, и я буду сидеть и писать очерк, надо, чтоб был близок к настоящему. Эти мальчишки на крыше напротив нашего окна всегда меня успокаивали. В окно видела - низко сейчас пролетели бомбардировщики с нашими звездами... А сердце-то, подлое, как затряслось, пока не отличила звезд...)
Ну из обращения к потомству перед запечатыванием дневников ничего не вышло.
Да и черт тебя знает, потомство, какое ты будешь... И не для тебя, не для тебя я напрягаю душу - у, как я иногда ненавижу тебя, - а для себя, для нас, сегодняшних, изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожающих ее, служивших ей - и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить... Как нежно заботятся обо мне Юрка и Яша, как дрожит за меня Николай, как боюсь я за них, как жажду их жизни, как люблю их, и Мусю, и отца, и маму, и Мишку, и умерших моих детей, и стихи, и людей - ведь люблю и хочу, чтоб они перестали мучиться хотя бы немного.
Воскреси меня хотя б за это!..
Не листай страницы!
Воскреси!..
(Маяковский)
Тревога все еще длится, изредка что-то ухает - не то далекая бомба, не то зенитка. Теперь далекий гул самолетов. После войны надо уничтожить все самолеты, все, чтоб люди забыли о них! О, неужели те, кому суждено выжить, выдержат все это? Видимо, на днях в городе будет нечто ужасное.
Отбой.
( Продолжение - здесь)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Так же по теме:
▪ Блокада Ленинграда в документах из рассекреченных архивов
▪ "Осада человека" - блокадные записки Ольги Фрейденберг
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
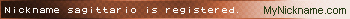

А за это время и книга уже оказывается вышла! (read.ru/id/507030), и отрывки в инете опубликованы (www.rg.ru/2010/04/21/bergolc.html).. Вот оно, значит, как быть тормозом-то!:))
Но, все равно, у меня тут поболее текста гораздо будет, чем в тех отрывках!:).. Да и вообще, не зря ж я все это готовил..:) Так что, читайте!:)
Ольга Берггольц (16(03)/05/1910 - 13/11/1975) известна своими пламенными выступлениями по радио в осажденном Ленинграде, своим стихотворным блокадным "Февральским дневником" и, конечно же, своей крылатой фразой, завершающей эпитафию жертвам Блокады на Пискаревском мемориале - "НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО"..
Но вот мало кто знаком с другим ее дневником, личным, который вела Ольга Фридриховна (или, как ее принято почему-то называть - Федоровна) исключительно для себя и куда могла уже записывать безоглядно все мучившие ее мысли и чувства..
Я их прочел случайно, в случайно же купленном 20 лет назад "литературно-художественном и общественно-политическом альманахе" Апрель - вып 4, 1991г, (было же время!)..
Строки из того дневника были одними из самых пронзительных, что мне довелось читать о Блокаде.. (во всяком случае, на тот момент). Особенно впечатлило описание животного ужаса, нападающего на человека во время бомбежек и обстрела..
О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унизительное ощущение - этот физический страх...
Нет, нет - как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело - так, что каждый бы думал: «Это мне» - и умирал заранее. Умер - а она пролетела, но через минуту будет опять - и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание - воскресает, чтоб умирать вновь и вновь. Доколе же? Хорошо - убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню... О-о, боже мой!
Ну и вообще, много другого чего интересного там имеется..
Дневник этот велся, разумеется, тайно и даже однажды (в штурм города) был закопан. Вот концовка письма от 26/IX-41 г., переданного в Москве сестре Ольги Берггольц (кто и подготовил к печати эти дневники) через Анну Ахматову (О. Берггольц помогла ей эвакуироваться):
«Мусинька, на всякий случай - только на всякий случай - знай, мои дневники и некоторые рукописи в железном ящике зарыты у Молчановых, Невский, 86. В их деревянном сарайчике. Может быть, когда-нибудь пригодятся».
Впоследствии О. Берггольц взяла из тайника дневники, продолжала их вести и хранила дома.
Дневник Ольги Берггольц в инете кажется не выкладывался, хочу восполнить этот пробел. Дам лишь прежде несколько биографических пояснений к именам, встречающимся в тексте:
Отец - Фридрих Берггольц, врач. Умер 07/11/1948, меньше чем через год после освобождения из лагерей.
Мама - Мария Тимофеевна Берггольц (1887-1957).
Борька - Борис Петрович Корнилов, поэт, первый муж О. Берггольц (расстались в 1930 г.). Репрессирован, погиб в 1937 году.
Колька - Николай Степанович Молчанов, второй муж О. Берггольц. После срочной службы на Кушке у Н. Молчанова возникли эпилептические припадки. Однако уже в первые дни войны он ушел на фронт, но был комиссован в конце июля или начале августа 1941 года. Умер от голода в Ленинграде 29/01/42.
Юра - Юрий (Георгий) Пантелеймонович Макогоненко (1912-1986), в блокадные годы редактор Радиокомитета. Третий муж О. Берггольц. Подробнее о нем тут - www.lebed.com/2003/art3396.htm
Яша - Яков Львович Бабушкин, худрук Радиокомитета. Провел своей волей запрещенную к эфиру Шумиловым радиопередачу «Февральский дневник» (стихи Ольги Берггольц о положении в Ленинграде), за что был уволен и разбронирован. Погиб под Нарвой.
Капустин Я. Ф., Шумилов Н. Д., Маханов А. И. - партийные функционеры из Ленинградского обкома.
Ольга БЕРГГОЛЬЦ
Блокадный дневник
2/IX-41
Сегодня моего папу вызвали в Управление НКВД в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа - военный хирург, верой и правдой отслужил Сов. власти 24 года, был в Кр. Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия - это без всякой иронии.
На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда.
Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути! Это значит, что старик и подобные ему люди (а их, кажется, много - по его словам) либо будут сидеть в наших казармах, или их будут таскать в теплушках около города под обстрелом, не защищая - нечем-с!
Я еще раз состарилась за этот день.
Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем виноваты.
Сейчас - полное душевное отупение. Ходоренко обещал позвонить Грушко (идиот нач. милиции), а потом мне - о результатах, но не позвонил.
Значит, завтра провожаю папу. Вижу его, видимо, в последний раз. Мы погибнем все - это несомненно. Такие вещи, как с папой, - признаки абсолютной растерянности предержащих властей...
Но что, что же я могу сделать для него?! Не придумать просто!..
(Примечание сестры О. Берггольц: "Я остановлюсь на первой записи (2/IX-41 г.), то есть на истории нашего отца, так как это было одним из трех «добавочных ударов» по Ольге во время блокады: смерть мужа, Николая Молчанова, высылка отца и снятие т. Шумиловым передачи по радио ее поэмы - Февральский дневник».
Эта запись сделана явно еще только по телефонному звонку папы, когда Ольга не знала сути того, что произошло. А произошло вот что: отца вызвали в НКВД и предложили стать стукачом (сексотом). Он с брезгливостью отказался: «Это не моя профессия!» Стали пугать - он не испугался. Тогда негодяй (пока еще не знаю его фамилии или клички!) обмакнул перо в тушь, перечеркнул папин паспорт и вписал в него 39-ю статью!")
5/IX
Завтра батька идет к прокурору - решается его судьба. Я бегала к т. Капустину - смесь унижения, пузыри со дна души и т. п. Вот - заботилась всю жизнь о Счастье Человечества, о Родине и т. д., а Колька мой всегда ходил у меня в рваных носках, на мать кричала, и никого, никого из близких, родных как следует не обласкала и не согрела, барахтаясь в собственном тщеславии, теоретическом, выдуманном.
Ленинград, я еще не хочу умирать!
У меня телефонов твоих номера,
Ленинград, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса...
(Мандельштам)
Но за эти три дня хлопот за отца очень сблизилась (кажется) с Яшей Бабушкиным, с Юрой Макогоненко. О, как мало осталось времени, чтоб безумненько покрутить с Юрой, а ведь это вот-вот, он даже злился на меня сегодня, и, переглядываясь с ним, вдруг чувствую давний хмельной холодок, проваливаюсь в искристую темную прорубь...
Это, я знаю, любовь к любви, не больше. Он славный, но какое же сравнение с Колькой?! Но он очень мил мне.
А город сегодня обстреливали из артиллерии, и на Глазовой разрушено три дома, и на др. улицах тоже. Я узнала это уже вечером.
Смерть близко, смерть за теми домами.
Как мне иногда легко и весело от этого бывает.
8/IX-9/IX
В ночь на 7/1Х на Л-д упали первые бомбы, на Харьковской. В это время (23.25) мы были у меня - я, Яша, Юра М. и Коля. Потом мы пили шампанское, и Юра поцеловал мне указательный палец, выпачканный в губной помаде. Вчера мы забрались в фонотеку. Слушали чудесные пластинки, и он так глядел на меня. Даже уголком глаза я видела, как нежно и ласково глядел.
Сегодня, в 22.45, был налет на Л-д, я слышала, как свистели бомбы - это ужасно и отвратительно. Все 2 ч. тревоги у меня тряслись ноги и иногда проваливалось сердце, но внешне я была спокойной. Да и сознанием я ничего не боялась, а вот ноги тряслись - б-р-р...
После тревоги (бомбы свищут ужасно, как смерть!) я позвонила в [Дом] радио, Юра говорил со мной... лояльно.
Я хочу успеть. Дай мне еще одно торжество - истинное и превосходящее любую победу, дай мне увидеть его жаждущим, неистовым и счастливым. Это немногое, о чем я прошу тебя перед свистящей смертью.
Я не прошу тебя о Коле, потому что мы погибнем вместе - я у подъезда, он на крыше. Мы ведь не прячемся в землю, когда они свистят. И ведь еще одно, и мы - вся Жизнь.
Мне надо к завтрему написать хорошую передовичку (...). Я обязательно должна написать ее из самого сердца, из остатков веры.
Сейчас мне просто трудно водить пером по бумаге. И все же вожу - есть мысли, завтра окончательно оформлю. Хуже всего, что с утра тюкает в голову - ужасно, как весной. Только бы не это, а то выйду из строя.
Начав работать, совершенно остыла к Юре.
Я знаю, что Юра - блажь, защита организма, рассредоточение, и только.
12/IX
(Они прилетели в 9.30, но у нас не грохало.)
Без четверти девять, скоро прилетят немцы. О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унизительное ощущение - этот физический страх.
И все на моем лице отражается! Юра сегодня сказал: «Как вас свернуло за эти дни», - я отшучиваюсь, кокетничаю, сержусь, но я же вижу, что они смотрят на меня с жалостью и состраданием. Опять-таки, это меня злит из-за того, что я не хочу потерять в глазах Юры. Выручает то, что пишу последнее время хорошие (по военному времени) стихи, и ему нравится.
Он и Яшка до того «проявляют чуткость», что я сегодня, кажется, их обидела, заявив, что не нуждаюсь в ней.
Но, боже мой, я же знаю сама, что готова рухнуть. Фугас уже попал в меня.
Нет, нет - как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело - так, что каждый бы думал: «Это мне» - и умирал заранее. Умер - а она пролетела, но через минуту будет опять - и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание - воскресает, чтоб умирать вновь и вновь. Доколе же? Хорошо - убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню... О-о, боже мой!
Сегодня в 9.30, когда начала писать, они вновь прилетели. Но бухали где-то очень далеко. Ложусь спать - а может быть, они будут через час? Через 10 минут? Они не отвяжутся теперь от меня. И ведь это еще что, эти налеты! Видимо, он готовит нечто страшное. Он близко. Сегодня на Палевском в дом как раз напротив нашего дома попал снаряд, много жертв.
Я чувствую, как что-то во мне умирает.
Когда совсем умрет - видимо, совсем перестану бояться. Нет, я держусь, сегодня утром писала и написала хорошее стихотворение, пока была тревога, артобстрел, бомбы где-то вблизи... Но ведь это же ненормально! Человек должен зарыться в землю, рыдать, как маленький, просить пощады. Правильнее бы всего - умертвить себя самой. Потому что кругом позор, «жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен»... Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб, некуда. Это называлось - «мы готовы к войне».
О, сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи!
Боже, опять надвигается ночь,
И этому не помочь.
Ничем нельзя отвратить, темноту,
Прикрыть небесную высоту...
13/IX
О, как грустно, как пронзительно грустно.
Уже почти не страшно - это неплохо, но грустно - именно не тоска, а покорная, глубокая, щемящая грусть. Как о ком-то милом, но очень близком, с кем давно разлучился.
Десять часов, скоро будет тревога.
Сегодня весь день артиллерийский обстрел, и сейчас где-то грохает, но это похоже на нашу. А в половине седьмого, когда я сидела в райкоме, во Дворец пионеров попал артснаряд, и осколок влетел к нам в комнату, разбив стекло. (Я сказала, будто сидела под этим окном, но я сидела под соседним. Похвасталась, как дура, - смешное тщеславие.)
Снаряды ложились на площади Нахимсона, это за несколько домов от нас.
Вчера у меня ночевала Люся, так как на Палевском против нашего дома упал снаряд и стекла в нашем доме вылетели. В этом доме я родилась, жила до 20 лет, здесь был Борька, здесь родилась Ирка. Теперь по нему стреляют.
Ну как же не будет чувства умирания? Умирает все, что было, а будущего нет. Кругом смерть. Свищет и грохает...
А на этом фоне - жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно. Напр., сегодняшнее собрание. Хлеб ужасно убавили, керосин тоже, уже вот-вот начнется голод, а недоедание - острое - уже налицо... Да ведь люди скоро с ног падать начнут!.. Конечно, осажденный город и все такое, но, боже мой, как же довели дело до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена! Ведь немцы все идут и идут вперед, сегодня напечатали, что сдан Чернигов, говорят, что уже сдано Запорожье - это почти вся Украина.
У нас немцами занят Шлиссельбург, и вообще они где-то под Детским Селом...
О, неужели же мы гибнем?
Неужели я уже сдалась - иначе откуда же эта покорная грусть, - и подобно мне сдались также тысячи ленинградцев. Эта грусть, эта томительная усталость - она и у Коли, и, я по глазам вижу, - у Яшки, у многих...
Она еще оттого, что, собственно, ты лишен возможности защищать и защищаться. Ну, я работаю зверски, я пишу «духоподъемные» стихи и статьи - и ведь от души, от души, вот что удивительно! Но кому это поможет? На фоне того, что есть, это же ложь. Подала докладную на управхоза, который не обеспечивает безопасность населения, но кем заменишь всех этих Цырульниковых, Соловьевых, Прокофьевых и пр. - все эти кадры, «выращенные» за последние годы, когда так сладострастно уничтожались действительно нужные люди?
Ничтожность и никчемность личных усилий - вот что еще дополнительно деморализует... Нам сказали - «создайте в домах группы в помощь НКВД, чтоб вылавливать шептунов и паникеров». Еще «мероприятие»! Это вместо того, чтоб честно обратиться к народу вышестоящим людям и объяснить что к чему. Э-эх! Но все-таки сдаваться нельзя! Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота...
Вот что убивает!..
Но дело обстоит так, что немцев сюда пускать нельзя. Лучше с ними не будет - ни для меня, ни для народа. Мне говорят, что для этого я должна писать стихи и все остальное.
Хорошо, хоть это мучительно трудно - буду.
Попробую обеспечить подвалом наших жильцов.
А самой мне во время бомбежки надо быть «на посту», в трухлявом беззащитном доме, надеясь только на личное счастье - авось не кокнет фугасом...
Артиллерия садит непрерывно, но теперь дальше от нас... Буду сейчас работать - стишок и начало очерка для Юры, затем для спецвещания.
17/IX
Сигнал В.Т.
Теперь тревог на дню раз по 8 - 10, и я уже не каждый раз, когда дома, сбегаю вниз - совершенно нельзя работать. А мне надо написать очерк о командирах производства для Юры - о моих слушателях. Мой Васильев" погиб - господи, какой это ужас, когда узнаешь о гибели знакомого человека. (Тихо, не слышно даже зениток - странно.) Немцы третьего дня, обойдя Детское, были под Пулковом. Третьего дня ими была занята Стрельна. Это, собственно, в черте города. Партия поставила вопрос о баррикадных боях, в Доме радио создан отряд, где Яшка комиссар, для защиты их улицы.
Аж руки опускаются от немого удивления - да как же допустили до всего этого... (На большой высоте идут чьи-то самолеты.)
Организм защищается безумно: просто не могу думать, "что город будет взят, убьют Колю, Юрку, Яшку, что я не буду приходить в радио, радоваться Юре и малейшим знакам его внимания, сердиться, что он медлит (не потому ли, что в хороших отношениях с Колей, или просто не влюблен ничуть?), что не будет, вдруг не будет всей этой жизни. Настолько не верю в иное, что даже последние дни спокойна: «вздор, ничего не случится».
Но это самозащита организма, я знаю.
Кольцо вокруг Ленинграда почти неудержимо сжимается.
Мы еще счастливы, что их от Пулковато чуть-чуть отогнали. О, бедные мы, бедные. Да еще эта ориентировка на уличные бои - да ведь это же преступление, это напрасная кровь, этим ничего уже нельзя будет изменить. Да и драться-то люди не будут, кроме отдельных безумцев, самоубийц...
Кажется, трагедия Ленинграда (залпы зениток, не сойти ли вниз - это рядом, над головой немец) приближается к финалу.
Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу - пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления - казалось, что она осуществима. О том, как потом политика сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немыслимой, удушающей лжи (зенитки палят, но слабо, самолеты идут на очень большой высоте - несомненно, прямо над моей головою. Не страшно ничуть. «В меня не попадет, почему именно в меня, зачем я им») -годы страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории и видели, что на практике, в политике - все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедающей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невиновности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили себя, и дико, отчаянно пытались верить. (Ох, это немец... Да, по нему пальнули. Он опять над нашим домом, очень высоко, но над нашим... Тоненький свист... бомба? Нет... Бросило в жар... Нет, нет, не бомба... Это немец - почему его не преследуют? Или наш? Взрывов не слышно...)
Зачем я тороплюсь записать все это - все равно я ничего не успела. Т.т. - знайте, я ничего не успела, а могла бы - много!
А Юру хотят забрать «политбойцом» на фронт - ой, не хочу, не хочу, не хочу... И глупо это до бесконечности, как... все, что есть.
Я могла бы жить в Доме радио, работать и спать в хорошем бомбоубежище, но я не иду туда без Коли - стыдно и позорно бросать вернейшего товарища в трухлявом доме, а самой спасаться. А его туда нельзя из-за диких его припадков, он будет пугать и без того измотанных людей. (Самолет смолк.)
Мы будем у мамы. Мне совестно тоже, что я, политорганизатор дома, ухожу из него. Но, черт возьми, я же здесь абсолютно бесполезна, на 100 % бесполезна, моя санитарная сумка и прочее - это та же видимость, та же ложь, что была и есть повсеместно. И стыдно отказываться даже от этой видимости - такова инерция подчинения уже отрицаемой системе. Но - очень стыдно. Не знаю, что и делать. Конечно, надо позаботиться о себе - хотя бы во имя того, что ведь знаю: смогу, смогу принести истинную пользу людям. А стыдно. (Опять низкий рокот самолета над самой головой - все-таки, наверное, это наш, по нему не бьют... А напротив моего окна прямо на крыше сидит мальчишка... Ну, и я буду сидеть и писать очерк, надо, чтоб был близок к настоящему. Эти мальчишки на крыше напротив нашего окна всегда меня успокаивали. В окно видела - низко сейчас пролетели бомбардировщики с нашими звездами... А сердце-то, подлое, как затряслось, пока не отличила звезд...)
Ну из обращения к потомству перед запечатыванием дневников ничего не вышло.
Да и черт тебя знает, потомство, какое ты будешь... И не для тебя, не для тебя я напрягаю душу - у, как я иногда ненавижу тебя, - а для себя, для нас, сегодняшних, изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожающих ее, служивших ей - и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить... Как нежно заботятся обо мне Юрка и Яша, как дрожит за меня Николай, как боюсь я за них, как жажду их жизни, как люблю их, и Мусю, и отца, и маму, и Мишку, и умерших моих детей, и стихи, и людей - ведь люблю и хочу, чтоб они перестали мучиться хотя бы немного.
Воскреси меня хотя б за это!..
Не листай страницы!
Воскреси!..
(Маяковский)
Тревога все еще длится, изредка что-то ухает - не то далекая бомба, не то зенитка. Теперь далекий гул самолетов. После войны надо уничтожить все самолеты, все, чтоб люди забыли о них! О, неужели те, кому суждено выжить, выдержат все это? Видимо, на днях в городе будет нечто ужасное.
Отбой.
( Продолжение - здесь)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Так же по теме:
▪ Блокада Ленинграда в документах из рассекреченных архивов
▪ "Осада человека" - блокадные записки Ольги Фрейденберг
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
