И в гроб сходя
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
...Что-то я в последнее время озаботилась судьбами русской литературы* (или это она - моей, растянув за углы свою спасительную ткань - батут, парус...).
Но, удерживаемая Державиным (и несмотря даже на нумизматику без продыха, а точнее - из-за неё, чтобы не задохнуться), я даже и ночью вчера думала и о нём, и о Пушкине, и о «судьбах русской литературы», и - в связи с темой тленья слова (убежит? - не убежит! - убежит!) - об обоих «памятниках» (державинском и пушкинском), и о «благословении» юного Пушкина «сходящим в гроб Державиным»...
«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошёл в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил своё намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и весёлостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочёл мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом**... Не помню, как я кончил своё чтение, не помню, когда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли...»
Единственная здесь правда - что в гроб сходя, потому что 8 (20) июля 1816 года Державин умер - написав за два дня до смерти свою «Реку времён»:
Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.
6 июля 1816
А всё остальное - желаемое за действительное (не со стороны Пушкина, конечно, а со стороны мифологии).
И оживился он уже при звуках голоса талантливого мальчика - как старая полковая лошадь при звуках трубы.
Трубы и лиры...
Что же до поэтических побегов от тленья, то на первый взгляд - да, он прав: уже не только Державина народ не читает, а и Пушкина знает лишь понаслышке.
И кажется - вот-вот «пожрётся» и вся русская литература...
Но на второй и третий... во-первых, мы же помним, что жрать и жертвовать, ложиться в труну и садиться на тризну - одно и то же.
А во-вторых и в-дальнейших - эти споры, раз попав на плодородную почву, уж никогда не умрут - прорастут аллюзиями-иллюзиями, проткут (прошьют) насквозь всю основу бытия и искусства своими растительными нитями, прозвучат сотнями лир и труб: вы думаете Отечества и дым нам сладок и приятен - это Грибоедов сказал? Нетушки... И Где стол был яств, там гроб стоит - это тоже Державин.
И «Глагол времён! металла звон!..» - от которого обзавидовался бы весь двадцатый век - это тоже он, Гавриил Романович.
А Дымятся серым дымом домы?
Ведь это же не пережить красоты, сжимающей сердце!..
А - оттуда же -
Ушёл олень на тундры мшисты,
И в логовище лёг медведь;
По сёлам нимфы голосисты
Престали в хороводах петь?..
Ведь просто взять и обрыдаться над этими «голосистыми нимфами»...
Тёплой осени дыханье,
Помавание дубов,
Тихое листов шептанье,
Восклицанье голосов
Мне, лежащему в долине,
Наводили сладкий сон.
Видел я себя стоящим
На высоком вдруг холму,
На плоды вдали глядящим,
На шумящу вблизь волну, -
И как будто в важном чине
Я носил на пле́чах холм.
Дальше: власти мне святые
Иго то велели несть,
Все венцы суля земные,
Титла, золото и честь.
«Нет! - восстав от сна глубока,
Я сказал им, - не хочу.
Не хочу моей свободы,
Совесть на мечты менять:
Гладки воды, коль погоды
Их не могут колебать.
Власть тогда моя высока,
Коль я власти не ищу».
Октябрь 1803
Г. Р. Державин. Свобода
Убежал, убежал Сашенька Пушкин от Державина - и оба убежали от тленья.
Улетим вслед за ними и мы - уцепившись за марлевые бинты-знамёна бессмертных текстов коготками-крючочками кириллицы, глаголицы, ивритицы, грузиницы, армяницы и прочего крюкового пения буквиц...
Взглянь, Апеллес! взглянь в небеса!
В сумрачном облаке там,
Видишь, какая из лент полоса,
Огненна ткань блещет очам,
Склонясь над твоею главою
Дугою!..
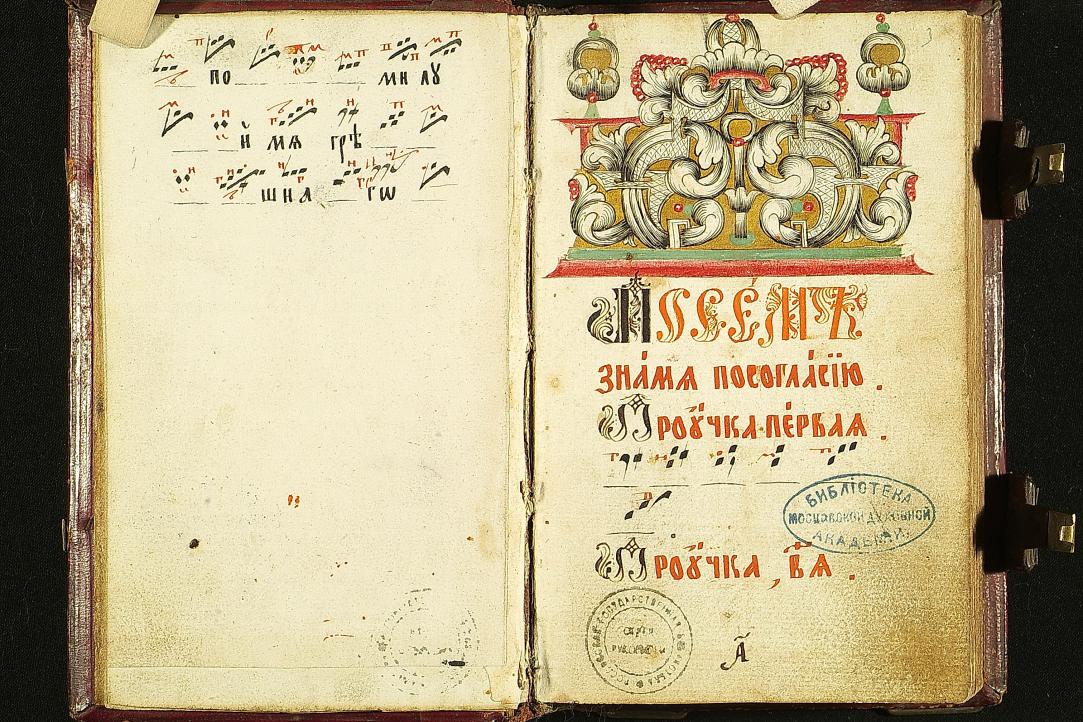
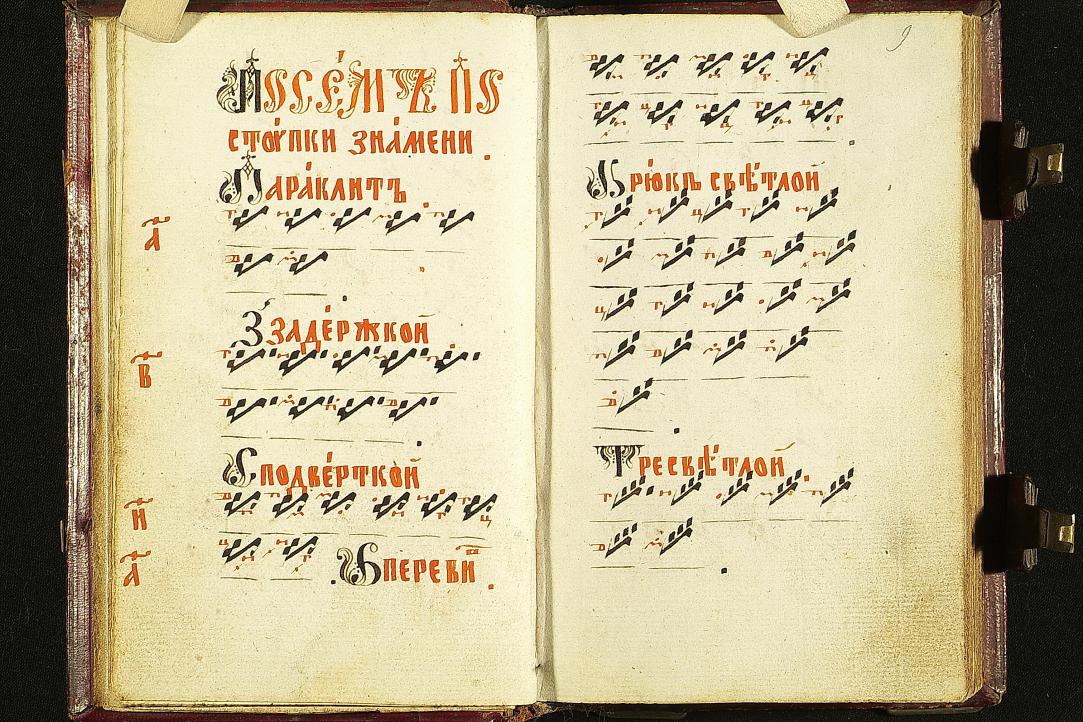
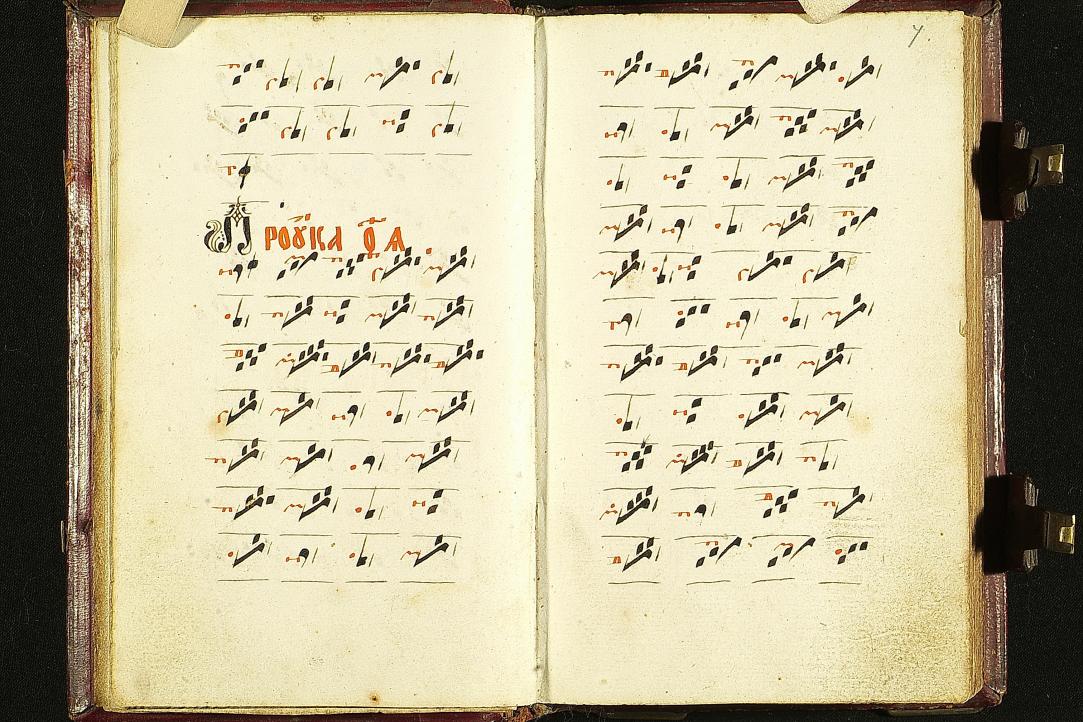
Азбука крюкового пения
И ещё тут - много...
* Здесь, здесь и ещё много где - а ведь ещё впереди обещанный рассказ об интимных отношениях всей нашей семьи с И. А. Гончаровым!..
** И было от чего забиться и зазвенеть, угу:
О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.
Музыкальный киоск
Отсюда.

© Тамара Борисова
Если вы видите эту запись не на страницах моего журнала http://tamara-borisova.livejournal.com и без указания моего авторства - значит, текст уворован ботами-плагиаторами.
И, в гроб сходя, благословил.
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
...Что-то я в последнее время озаботилась судьбами русской литературы* (или это она - моей, растянув за углы свою спасительную ткань - батут, парус...).
Но, удерживаемая Державиным (и несмотря даже на нумизматику без продыха, а точнее - из-за неё, чтобы не задохнуться), я даже и ночью вчера думала и о нём, и о Пушкине, и о «судьбах русской литературы», и - в связи с темой тленья слова (убежит? - не убежит! - убежит!) - об обоих «памятниках» (державинском и пушкинском), и о «благословении» юного Пушкина «сходящим в гроб Державиным»...
«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошёл в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил своё намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и весёлостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочёл мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом**... Не помню, как я кончил своё чтение, не помню, когда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли...»
Единственная здесь правда - что в гроб сходя, потому что 8 (20) июля 1816 года Державин умер - написав за два дня до смерти свою «Реку времён»:
Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.
6 июля 1816
А всё остальное - желаемое за действительное (не со стороны Пушкина, конечно, а со стороны мифологии).
И оживился он уже при звуках голоса талантливого мальчика - как старая полковая лошадь при звуках трубы.
Трубы и лиры...
Что же до поэтических побегов от тленья, то на первый взгляд - да, он прав: уже не только Державина народ не читает, а и Пушкина знает лишь понаслышке.
И кажется - вот-вот «пожрётся» и вся русская литература...
Но на второй и третий... во-первых, мы же помним, что жрать и жертвовать, ложиться в труну и садиться на тризну - одно и то же.
А во-вторых и в-дальнейших - эти споры, раз попав на плодородную почву, уж никогда не умрут - прорастут аллюзиями-иллюзиями, проткут (прошьют) насквозь всю основу бытия и искусства своими растительными нитями, прозвучат сотнями лир и труб: вы думаете Отечества и дым нам сладок и приятен - это Грибоедов сказал? Нетушки... И Где стол был яств, там гроб стоит - это тоже Державин.
И «Глагол времён! металла звон!..» - от которого обзавидовался бы весь двадцатый век - это тоже он, Гавриил Романович.
А Дымятся серым дымом домы?
Ведь это же не пережить красоты, сжимающей сердце!..
А - оттуда же -
Ушёл олень на тундры мшисты,
И в логовище лёг медведь;
По сёлам нимфы голосисты
Престали в хороводах петь?..
Ведь просто взять и обрыдаться над этими «голосистыми нимфами»...
Тёплой осени дыханье,
Помавание дубов,
Тихое листов шептанье,
Восклицанье голосов
Мне, лежащему в долине,
Наводили сладкий сон.
Видел я себя стоящим
На высоком вдруг холму,
На плоды вдали глядящим,
На шумящу вблизь волну, -
И как будто в важном чине
Я носил на пле́чах холм.
Дальше: власти мне святые
Иго то велели несть,
Все венцы суля земные,
Титла, золото и честь.
«Нет! - восстав от сна глубока,
Я сказал им, - не хочу.
Не хочу моей свободы,
Совесть на мечты менять:
Гладки воды, коль погоды
Их не могут колебать.
Власть тогда моя высока,
Коль я власти не ищу».
Октябрь 1803
Г. Р. Державин. Свобода
Убежал, убежал Сашенька Пушкин от Державина - и оба убежали от тленья.
Улетим вслед за ними и мы - уцепившись за марлевые бинты-знамёна бессмертных текстов коготками-крючочками кириллицы, глаголицы, ивритицы, грузиницы, армяницы и прочего крюкового пения буквиц...
Взглянь, Апеллес! взглянь в небеса!
В сумрачном облаке там,
Видишь, какая из лент полоса,
Огненна ткань блещет очам,
Склонясь над твоею главою
Дугою!..
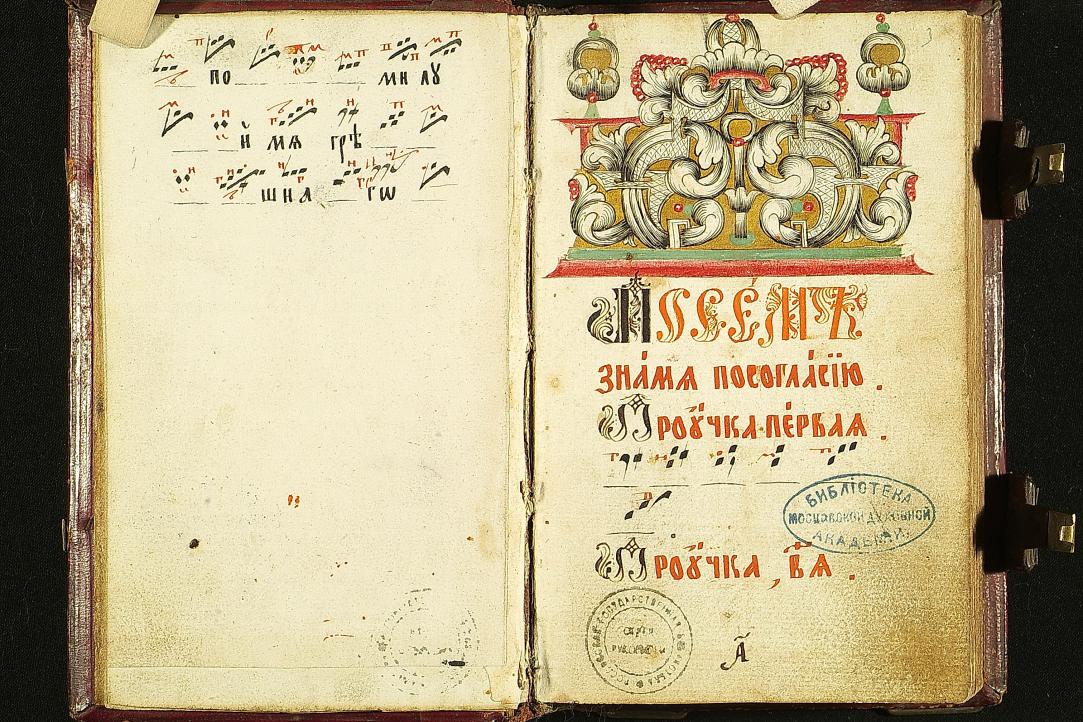
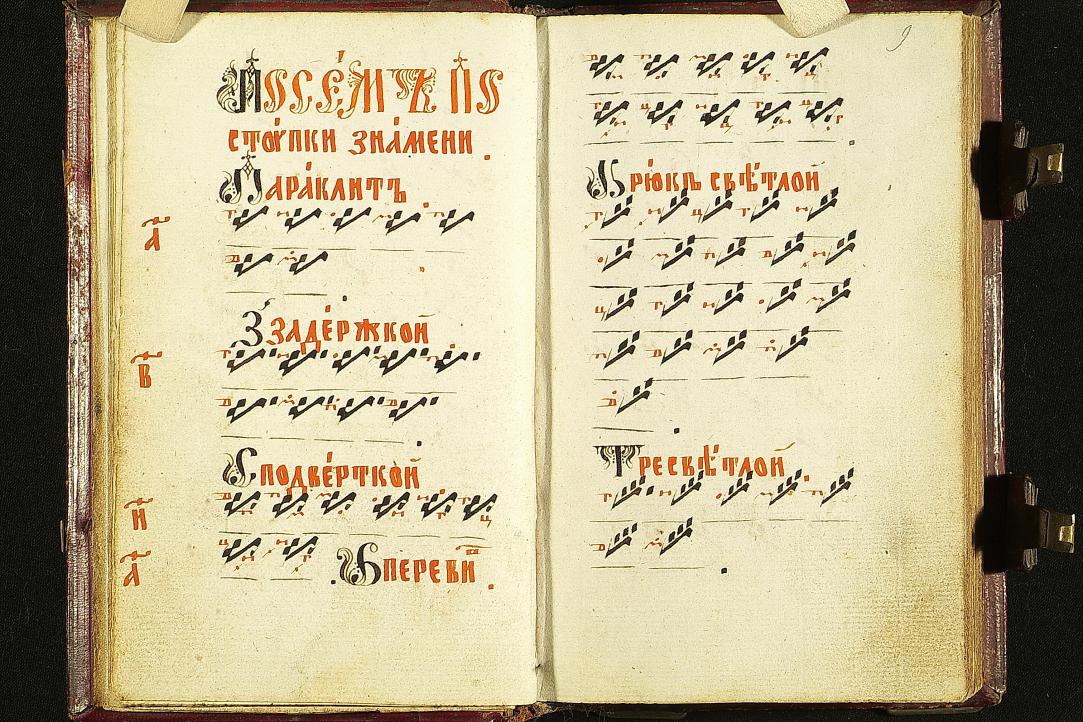
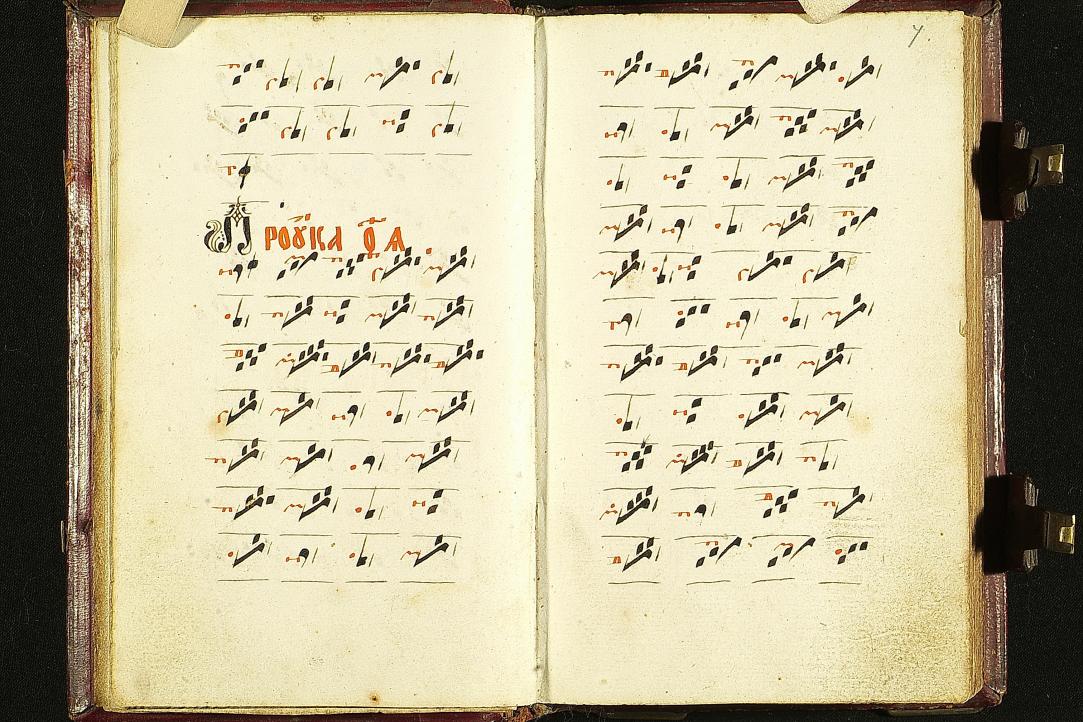
Азбука крюкового пения
И ещё тут - много...
* Здесь, здесь и ещё много где - а ведь ещё впереди обещанный рассказ об интимных отношениях всей нашей семьи с И. А. Гончаровым!..
** И было от чего забиться и зазвенеть, угу:
О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.
Музыкальный киоск
Отсюда.

© Тамара Борисова
Если вы видите эту запись не на страницах моего журнала http://tamara-borisova.livejournal.com и без указания моего авторства - значит, текст уворован ботами-плагиаторами.