Галлиени, Лиотэ и французский колониализм второй половины XIX века


Слева: Жозеф Симон Галлиени. Справа: Луи Юбер Гонзалв ЛиотэПредставляю вниманию читателя продолжение разговора о французских рыцарях колониализма. Знамя маршала Бюжо подхватывают в конце XIX века Галлиени и Лиотэ. Но рассматривая ранние годы этих двух военачальников, мы должны больше внимания уделить общему состоянию французской армии и европейского военного дела.
После своего поражения во Франко-прусской войне 1870-1871 гг. обновленная республиканская Франция начала новый виток колониальных предприятий. Идеи Бюжо снова стали восстребованы, к тому же у маршала появились талантливые последователи - Жозеф Симон Галлиени и Луи Юбер Гонзалв Лиотэ.
Галлиени был постарше. Его отец был офицером ломбардского происхождения, и молодой Галлиени продолжил его путь. Карьера молодого человека началась в злополучный 1870 год, когда Галлиени в составе знаменитой Синей дивизии сражался в битве при Базейле. Он был ранен и попал в плен. Во Францию он вернулся только после подписания мира. Вся дальнейшая карьера этого офицера проходила в отдаленных уголках земного шара: Мали и Нигер сменялись Индокитаем и Мадагаскаром.
В отличие от Галлиени Юбер Лиотэ был выходцем из знатной семьи. У них вообще было очень мало общего. Лиотэ вел светскую жизнь, был приятным собеседником, чего не скажешь об угюмом и молчаливом Галлиени. Кроме того, Лиотэ был убежденным легитимистом и католиком. Он этого никогда не скрывал, не глядя на то, что служил республиканской и антиклерикальной Франции.
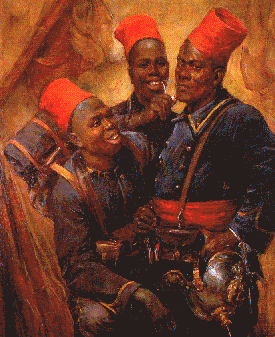
Солдаты французских колониальных частей
Время Галлиени и Лиотэ уже существенно отличалось от эпохи Бюжо. Огневая мощь оружия увеличивалась, и это дало преимущество европейцам. Когда французы вторглись в Алжир, у арабов было по крайней мере 8 000 мушкетов. Длинноствольные jezail были дальнобойнее французских мушкетов, которые были заточены на стрельбу залпами. Поэтому французы имели преимущество скорее в дисциплине, чем в технологиях. Артиллерия же мало использовалась.
С появлением нарезного оружия и магазинных ружей преимущества в технологиях над туземцами стало ощутимым. Потом к этому добавились пулеметы и горные легкие пушки. Это добавило огневой мощи и позволило использовать меньшее количество людей, а это уже вело к большей мобильности колонн. Теперь технологические преимущества были главными факторами успеха европейцев. Кроме того, ситуация изменилась в том смысле, что были созданы колониальные полки. В 1857 году Фэдерб (Faidherbe) создал первый полк сенегальских тиральеров. Потом появились и другие колониальные части. К 1900 году они составляли 1/10 от всех вооруженных сил Франции.
Было много причин перехода к привлечению на службу местных жителей. Офицеры говорили, что они лучше адаптированы к условиям ведения войны в экзотических регионах. А еще говорили - прежде всего, для общественного мнения Франции - что это такое применение политики divide et empira. Африканцы теперь воюют с африканцами за величие Франции. Можно было списывать разные жестокости на африканский нрав. Еще одна причина - малая стоимость таких полков. Многие шли в них ради наживы. Платили им чуть более, чем ничего, но была возможность поживиться за счет местных средств.
Была еще одна причина, связанная с введением во Франции всеобщей воинской повинности. В среде профессиональных военных боялись, что солдаты-граждане привнесут в армию политику. Отношения между военными и гражданскими властями Франции были очень натянутыми, из-за этого у военных было подспудное желание изолироваться. Серьезный шаг к этому был сделан в 1900 году, когда колониальная армия стала самостоятельной организацией со своим особым статусом.

Одна из иллюстраций подвига Маршана и его людей
Был еще третий новый фактор. Создавалась атмосфера острой конкуренции на международной арене, велась ожесточенная гонка за колониями. Французские офицеры, среди которых были сильны специфические пиратствующие настроения, готовились принять участие в этой гонке. Иногда элементарная предосторожность приносилась в жертву амбициям. Колонны заходили слишком далеко, у них кончалась провизия, и люди попадали в очень сложную ситуацию. Характерный пример - Фашодский кризис 1898 года. Маршан проделал марш в 3000 миль, его люди показали чудеса выносливости. Но с какой целью они появились в Фашоде, так и осталось загадкой. Его бы выбили оттуда или силы Махди или Китченер.
Наконец, четвертый фактор - политическая эволюция французской армии. С наполеоновских времен в армии было много «левых», по понятиям того времени. Ecole Polytechnique была таким рассадником либерализма. Но к концу ХХ века настроения в армии стали клониться вправо. Роль армии в 1848 году, в 1851 и в 1871 году показывала левым, что им не следует особенно на нее рассчитывать. Кроме того, колониальные предприятия теперь влияли на внутреннюю политику. Так в 1885 году поражение в Индокитае было использовано как предлог для атаки на проколониальное правительство Жюля Ферри, которое в итоге пало. Левые старались разыгрывать карту антимилитаризма, а правые старались защищать армию. Напомним, что тогда шло дело Дрейфуса. Какие-либо происшествия, связанные с армией, неудачи, жестокости и т. д., всякий раз использовались, чтобы поднять вопрос о контроле политиков над армией. Теории Лиотэ и Галиени во многом были ответом на рост антимилитаризма и антиколониализма. (продолжение)
Часть 1. Маршал Бюжо