Довлатов. Мразь или ворованный воздух?
Когда-то один из русских классиков писал : "Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые это мразь, вторые - ворованный воздух".
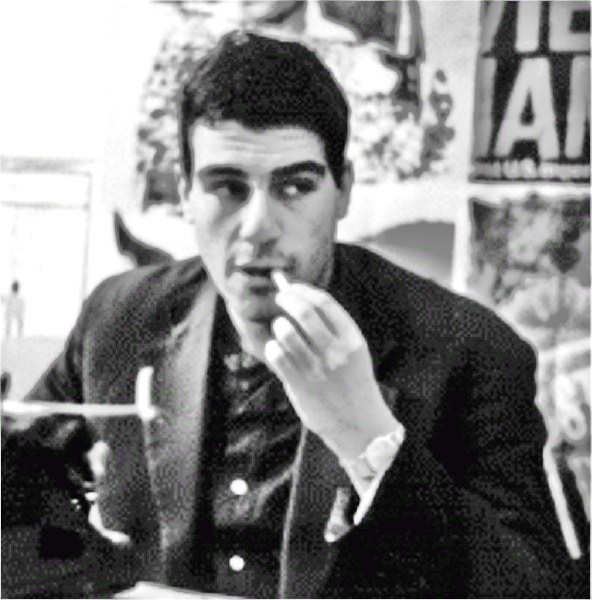
"Как все-таки представлять Сергея Довлатова?" - задумался Владимир
Бонадаренко, автор обширной и дискуссионной статьи, найденной на
просторах интернета. Именно с ней я и решил с вами поделиться.
Если принять это утверждение за аксиому, то все творчество Сергея Довлатова окажется между мразью и ворованным воздухом.
Чего больше? "Он пил как лошадь и нарывался на истории... Он портил
перо х...ней в газетах" - злобно пишет о нем Михаил Веллер. И
продолжает, говоря уже об американском периоде: "И вот теперь он
в Штатах, все его книги опубликованы. Но там это... никому он там не нужен...Такое отношение к Довлатову достаточно широко распространено "Я усомнился и стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами". Или в другом месте "Хочешь писать - сиди пиши. Хочешь печататься - расшибайся в ле пешку и печатайся. А вот если кто хочет именно быть писателем - то есть выступать перед читателями, не ходить на службу, захаживать в редакции на чай и коньяк, ездить по миру, вести беседы в домах творчества... - провались он пропадом... Ущемленное самолюбие и знак причастности к литературному процессу. Пар в свисток - сублимация... Примерно такой оценкой творчества Довлатова я поделился с хорошо знавшим его Лурье. И открыл в нем радостного единомышленника".
Еще один из наставников Довлатова И. Меттер добавляет: "Я порой мог судить о его литераторской морали, он ею, к сожалению, пренебрегал". Еще один ленинградский мэтр Давид Дар прямо-таки наводнил Ленинград призывами хорошенько избить Довлатова.
В чем дело? Почему столько жестких оценок от людей, вспоивших и вскормивших писателя, от таких же фрондерствующих, эмигрирующих? Злобная полемика сопровождала его повсюду. В Америке Седых, один из столпов эмиграции, главный редактор "Нового русского слова" назвал его публично "лагерным вертухаем". А уж молва разнесла слух, что служа в конвойных войсках надзирателем, Сергей Довлатов лично избивал Александра Солженицына.
Конечно, одной из главных причин постоянной полемики является сама форма довлатовских повествований. Этакая псевдодокументаль ность, приблизительная вспоминательность, когда в свои шальные рас сказы он вставлял абсолютно подлинные имена. Даже скандальный ка таевский мовизм "Алмазного венца" был прикрыт псевдонимами. Вер-тухай Довлатов поступал с писательскими знаменитостями проще, также, как с зэками в лагере в его "Зоне", расположенной в республике Коми. О том же Веллере: "Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: " Он пах духами" (вместо "пахнул"), "продляет" (вместо "продлевает" ). Что это значит?".
Когда Василь Быков подписал письмо против Солженицына, Довлатов предположил: "Может быть, он хочет выпустить свой четырехтомник?" Работая в пушкинском заповеднике, он без злобы, но достаточно цинично высмеивал выдумки Гейченко. Когда вышел "Заповедник" Довлатова, старожилы обидчиво переживали, встречая себя на страницах повести.
Ленинградский журнал "Костер" замирал, слушая по "Свободе" очередной рассказ Довлатова о своей работе в "Костре". Кого-то потом таскали на ковер в обком и КГБ, кто-то, изображенный стукачом, потрясал кулаками в интеллигентских компаниях... "Он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры". (С.Вольф) "Я в самом деле один из персонажей этой... книги. И как персонажу мне "неуютно"(А.Найман)...
Он не стеснялся ошибаться, а может быть, даже делал это преднамеренно. Он как бы сознательно спутал все жанры: мемуары, новеллу, эссе, анекдот. По сути, конечно, это был аморальный прием. Откуда эта сниженность критериев ?
Василий Шукшин писал: "Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот" .
Довлатов в центр таких анекдотов ставил людей из своего круга. Он как бы бил по своим - по всей интеллигентско-диссидентствующей братии. На его булавки нанизывались Приставкин и Битов, Горбовский и Евтушенко, Наум Коржавин и Лимонов. Этакий "новый журнализм". Может быть, единственное, что изобрела третья эмиграция, "Новый журнализм" - Эдуарда Лимонова, Валентина Пруссакова, Александра Глезера, в чем-то Саши Соколова, Александра Зиновьева, позднего Виктора Некрасова, и, конечно же, самого Сергея Довлатова. Принципы поэзии, перенесенные в прозу. Герой Лимонова - Эдуард Лимонов. Герой Довлатова - Сергей Довлатов. "Я и все вокруг меня" . В пьяном бреду, в постели, на симпозиуме, в драке. Все знакомое вываливается на читателя. "Нон фикшен" - документальная проза, где в центре сам автор.
А если автор любит или приучен всей советской своей жизнью - привирать, напустить лжи и туману?
"Так вот, я рассказчик, который хотел бы стать писателем". Но ненадежного рассказчика не печатают. Что делать? Возненавидеть окружающих, а самому найти возможность печататься.
"Приставкина читать не буду. Я их не читаю уже лет двенадцать. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров".
Самый главный парадокс анекдотической прозы Довлатова в том, что изначально, с первых шагов, находясь в окружении либе-ральствующей интеллигенции, и совершенно не зная почвеннического направления современной русской культуры, весь свой сарказм, весь наработанный цинизм, всю конвойскую беспощадность он вымещает на этом окружении. Этим он на самом деле похож на Чехова, беспощадно высмеивающего беспомощных и вялых дядей Ваней, трех сестер и прочих обитателей вишневых садов. Только у Довла-това эпоха другая, и интеллигентность не та... Русский почвенный мир ему незнаком. Ему как бы внушили, что это - чужой мир. Ему как бы внушили, что в основе деревенской прозы "безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: "Где ты, Русь?! Куда все подевалось?!" Но вот Довлатов незадолго до отъезда из России, уже состоявшимся в эмигрантских кругах писателем, "решил, наконец, выяснить что это за деревенская проза? Обзавестись своего рода путеводителем... раскрыл серый томик Виктора Ли-хоносова"...И что же? Конечно, мироощущения своего кланово упакованный писатель уже изменить не мог. Конечно, плач по деревне и "целомудренная стыдливость чувств" ему остались чужды, но удивительно, как этот законченный циник высоко оценил художественный дар Виктора Лихоносова. "Хороший писатель. 'Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно."
Такого комплимента от Довлатова не дождались ни Битов, ни Аксенов. Разве что его единственный кумир Иосиф Бродский и Виктор Некрасов, к которому Довлатов относился с большой нежностью и теплотой, дождались от него столь высоких оценок. Довлатов аж сам себе поразился: "Услышал бы Толстой подобный комплимент"' Может быть, он срывал злость на своих либеральных сотоварищах, видя их и свою постоянную циничную двойственность, постоянное переодевание идеологических одежд? Он ненавидел перевертышей. Поэтому он ненавидел и себя. Поэтому он и опустился на дно цинизма и плебейства, видя там большую чистоту и истинность своего земного существования, чем во всей сволочной кривляющейся интеллигенции.
По сути, он был выродком среди них. Он подчинялся до поры до времени, а потом вырывалось: "Плебей! Ничтожество! Жалкий провинциал!" Это была самооценка. Такой же часто была и оценка других: Владимир Максимов, печатая его в своем "Континенте" заметил: "Довла-тов, конечно, ничтожество, но рассказ смешной, и мы его опубликуем".
Он нес в себе плебейство, как вызов. Он пишет о себе: "Растущая тяга к плебсу". Он плевал на вкус, он желал быть блудным сыном века, плевал на "нормальных людей".
Я уверен, не из красивости и эпатажности, не изображая подонка, а будучи им, воруя у друзей, безбожно подставляя их, устраивая скандалы, он не столько с властью боролся, сколько с культурным обществом".
"Я лет с двенадцати ощущал, что меня неудержимо влечет к подонкам." В другом месте: "Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям - беднякам, хулиганам, начинающим поэтам. Тысячу раз я заводил приличную компанию, и все неудачно. Только в обществе дикарей, шизофреников и подонков я чувствовал себя уверенно".
Он распространял беспокойство вокруг себя, но мазохистскому интеллигентскому обществу семидесятых-восьмидесятых это нравилось.
В сущности он и победил как писатель плебеев. Он победил неожиданно для себя, уже после своей смерти, именно поэтому стал популярен. Ни нравоучений, ни поучений, ни умных слов, ни усложненной стилистики. Он бросил свое плебейство в массы, и массы сегодня его уже почти полюбили, а интеллигенты как всегда всему нашли свое умное объяснение.
Откуда плебейство? Откуда утонченный цинизм? Вернемся к заголовку первой главы. Мразь или ворованный воздух? Чего больше? Где мразь? А где ворованный воздух?