Из повествований Виктора Астафьева

***
..." Зимовье Аким подремонтировал в
прошлый прилет, но возни с ним еще много, подопрело зимовье, давно в нем не
было промысловика, а вот туристы и бродяжки всякие наведывались: скололи
углы на растопку и козырек над дверью свели, истюкали топором половицы и
порог. Комары, холод ли не дали приблудным людям разбить стекло в окне:
разбить стекло, напакостить в избушке, высечь надписи топором на стене и
ножиком на столе -- это уж непременный долг современных ночевальщиков, если
они этого не сделают, то вроде как с хворью в душе уйдут, с
неудовлетворенностью.
Надо проконопатить, обшить дверь, набить за оконный
надбровник моху -- вытеребили птицы, мыши -- и само окошко оклеить,
промазать, пол приподнять -- сел на землю; главное же -- дров на весь сезон
наширкать, запасти накрохи, птицы, рыбы, ближе познакомиться с молодой,
только что приобретенной собакой Розкой, которая резво носилась по тайге,
облаивала глухарей или рябчиков, проломившись сквозь зарастельник, громко
лакала воду, смотрела на приближающуюся лодку, пошевеливала хвостом,
загнутым в вопрос: что-де за человек мой новый хозяин, как мы с ним
уживемся?
Аким трепал Розку по пушистому загривку, скреб ногтем за чуткими ушами.
Розка, уткнувшись хозяину в колени сырой, чистой мордой, притихнув, глядела
снизу вверх с покорной ласковостью. "Ты только не бей меня, и все будет
ладно", -- говорил ее взгляд.
Шибко бьют иногда собак, шибко. И самых добрых и нужных бьют -- ездовых
и охотничьих. Комнатных шавок бить не за что, они сахар едят, лапу дают,
гавкают, и все. В тайге жизнь серьезна, тут лапой не отделаешься, работать
надо и знать, когда гавкнуть, а когда и промолчать.
-- Ниче, Розка, ниче! -- успокаивал собаку Аким. -- Ищи давай, ищи! --
С детьми и собаками Аким умел ладить, они его любили -- верный признак души
открытой и незлой.
В речке Эндэ, выбивая мальков, хлестался ленок, завязав узел на воде,
уходили с отмелей таймени, хариус прощупывал плывущие листья и осенний хлам,
лениво снимая личинок, пуская осторожно кружки. Ожиревшая, непуганая рыба от
лодки отваливала неторопливо, выстраивалась возле струи, в бой воды, в
водовороты не лезла. Скоро покатится хариус в низовья, следом уйдет таймень,
ленок, и речка опустеет. Хорошо бы на ямах чего осталось, хоть мелочь, налим
пошел бы на икромет -- зимой питанье себе и собаке, а накроха -- всем
заботам забота.

Зимовье темнело продавленной крышей за прибрежным веретьем, в сером
оголившемся ольшанике. Сразу за избушкой мшел каменный бычок-плакун,
выдавливая из-под себя иль из себя талец, путь которого и жизнь которого на
свету была совсем коротенькой. Редко ставят охотники зимовье в таком сыром,
заглушистом месте, но на сезон-два, видать, и рубили избушку, и охотник
ленив был: чтоб вода, дрова, промысел -- все рядом, на остальное плевать.
Талец и камень переплело, опутало смородинником с последними на нынешних,
маслянисто-темных побегах листьями, прихваченными морозцем; дружной рощицей
стояли вдоль тальца медвежьи дудки, уронив тряпье обваренных листьев и
топорщась мохнатостью зонтиков; жались к камню кустики аршинного
чая-лабазника, соря в желобок тальца круглое, пылящее семя; понизу светились
уже слепые нити незабудок и чахоточно цветущей, но сочной мокрицы, которая
после того, как опали и завяли зонтичные, получила каплю света, взбодрилась
от припоздалого солнца, от первых ли инеев; липучка навязчиво ластилась ко
всему. Когда еще с первым вертолетом прилетал Аким, то нащипал возле тальца
берестинку морхлой, недозрелой смородины, хрустел косточками черемухи,
лакомился гонобобелью и называл заросли за избушкой садом.
Сразу за "садом", в шаге от избушки начиналась приполярная тайга с
редкими, колотовыми кедрачами, ершистыми ельниками, седым пихтарем в падях,
мелким чернолесьем по речке Эндэ и вздыбленным притокам ее. Но по-за речками
простиралась ласта -- местность низкая, закрученная в моховые поляны, --
предвестница тундры. В ясные дни глаз доставал подтаежье -- ничего хитрого:
в какой-нибудь полсотне верст на север, может, и ближе -- шестьдесят седьмая
параллель -- Полярный круг. Аким пытался "оформить" эту самую параллель,
зрительно представить ее в виде границы. И хотя он в Заполярье родился,
вырос, все видел и знал, при научном слове "параллель" у него в голове
преображалось, жизнь и местность обретали какие-то иные формы, и выходило,
что по эту сторону параллели -- лес, ягоды, кустарники, боровая птица,
лесной зверь, а по ту -- сразу же голая тундра, испятнанная озерами, и
ничего там нет, кроме мха и кустарников, уток да гусей, песцов и куропаток.
Поймавшись взглядом за угол зимовья, Аким с удовольствием отметил:
осадка избушки та же, что и ранней осенью, -- значит, не мартышкин труд то,
что талец, наладив- шийся подмывать жилище, отведен Акимом в гущи "сада",
что уперты в набережную стенку три слеги да подлатана корой крыша --
человеческие руки, они и строят, и хранят, без них даже лесная избушка
дряхлеет.
И все же что-то было не так с зимовьем, потревожено оно вроде бы
чем-то, мох на тропке притоптан, на каменьях сбит и заголен; торчит пенек
недавно срубленной ольхи; труба в черной кайме свежей сажи, стало быть, тоже
невдавно топлена; "сад" шибко смят, утоптан у рябящего устья тальца,
смородинник и вовсе обломан; на дне Эндэ блеснула крышка консервной банки; к
стене избушки прислонено на скорую руку вырезанное удилище, болтается
оборванная жилка с городским пластмассовым поплавком. "Туристы! -- взвыл
Аким. -- Добрались, падлы! -- Отрывисто, испуганно залаяла у зимовья Розка.
-- Заблудились, в рот им пароход!"
Приткнув долбленку к берегу, Аким подтянул ее, выгреб из носа лодки
патронташ, дождевик, заглянул в ружье -- заряжено ли, и, внутренне
взъерошенный, ожидал, как, держа пальцы в мелких карманах драных джинсов,
космачом, без шапки, спустится от избушки заросший человек, беспечно
поздоровается и выдаст что-нибудь кисло-шутливое насчет того, что
приблудились они с дружками, задичали, съели в избушке все, кроме бревен, и
стойко ждали, когда явится хозяин зимовья -- охотник, накормит, напоит и
выведет или укажет им дорогу, спасая их для потомства и будущих великих дел.
Любителей странствовать по диким местам развелось полно, и они не только не
трудятся, чтобы поучиться ходить по ним, но даже и расспросить ленятся, что
это за оказия такая, тайга-то, пригодна ль она для прогулок?
Никто от избушки не спускался. Розка лаяла все растревоженней и
звончей. Аким поспешил к зимовью, на ходу отмечая взглядом приметы
нашествия: ведро, полное дождевой воды; пенек ольхи и щепа закраснели; муть
отстоялась в человеческом следу -- судя по вдавышу, сапог сорок второго
размера, неделю, если не больше, не выходили. Ага, окурок! Окурок давний и
совсем раскисший, и сигарета докурена до фильтра -- бережливый, опытный
турист был или весь издержался? На подпаренном мохом крылечке, вросшем в
землю, двумя пестрыми куропатками сидели драные, в пятках смятые кеды
подросткового размера. "Тихий узас! -- волосы на голове Акима зашевелились.
-- Мужик с парнишкой! Умерли!.."
Аким толкнул дверь -- она не подалась. Он опустил с плеча ружье,
прислонил его к стене, схватил деревянную ручку обеими руками, пнул дверь
ногой, навалился плечом. Сыро хлюпнув, она нехотя отворилась. Акима втащило
на двери в жилье и там чуть не сшибло едучим, застоявшимся запахом гнили и
мочи. ...
Промаргиваясь на мутное, в серых разводах окошко с пятнышками прилипших
к стеклу комаров и лесной тли -- окно не протирали, некогда было или не
догадались, Аким обхватывал глазами избушку: с подоконника, тесанного
нехитрым топором безвестного охотника, свисала грязная цветастая кепочка,
вытянув целлофановый козырек утиным клювом, -- при бедном таежном убранстве
избушки совсем неуместная и жалкая вещь; на столе тюбик противокомариной
мази, грязный, почти выдавленный; здесь же темные очки в перламутровой
оправе; золотые часики, светящиеся цветком- стародубкой; россыпью
неошелушенные кедровые шишки; котелок почему-то на полу, в нем деревянная
ложка с рыжим черенком; топорщилась рваной жестью неумело открытая,
уроненная набок банка, из нее вытекла, плотным слоем пыли облипла лужица;
голубая сумка с голубем на боку; изодранный городской плащик-болонья;
громадный рюкзак с раздернутой пастью; топор -- чем-то очень знакомый топор,
рядом чехол от топора валяется; возле печи щепа, ореховый мусор, печь давно
холодная, в избушке настоялся мозглый смрад.
Кучей лежащее на нарах тряпье, сверху придавленное изъеденной мышами
оленьей шкурой, зашевелилось, и из-под него заглушенно донеслось:
-- Го... Го... Го-го...
Аким бросился к топчану, поднял шкуру, разрыл тряпье, откинул
скомканную палатку и в грязнющем спальном мешке обнаружил беспамятного,
горячего подростка. Вместо лица у него был костяк, туго обтянутый как бы
приклеенной к нему восковой кожей, оскалились зубы, заострился нос,
выпятилась кость лба -- печать тления тронула человека. Преодолевая
отвращение, Аким сдернул с него изопрелые джинсы, вместе с ними паутиной
стянулось что-то похожее на женские колготки, и скоро обнаружился фасонно
шитый, вяло болтающийся на опавшей груди атласный бюстгальтер.
"Ба-а-ба-а-а!" -- отшатнулся Аким.
Опомнился он лишь через несколько дней, когда вышел из избушки на берег
Эндэ и увидел в устье тальца на промытом песке и стеклянно мерцающей гальке
что-то пышноперое, головастое, по-поросячьи сыто, вроде бы и высокомерно
поглядывающее круглыми зоркими глазками. Упятившись в заросли забоки, Аким
махом слетал в избушку, схватил ружье и дуплетом опрокинул нежившегося на
щекочущей струйке нарядного тайменя. Громом выстрела так рвануло по речке и
по тайге, что вроде дверь распахнулась в мир, и Аким начал слышать все
вокруг и ощущать себя.
Три дня и три бессонные ночи провел он в полной отключенности от мира,
одолевая смерть, спасая человека -- женщину иль девчонку -- не поймешь,
истощала от голода, иссохла от телесного жара и болезни, сделалась что
утка-хлопунец, вся жидкая, кожа на ней оширшевелая. Одним горлом, безъязыко
она выбулькивала: "Го-го, го-го, го-го..." Аким прилеплялся ухом к спине
больной, и она, чуя его, переставала турусить, замирала в себе. Хрипело,
хрюкало, постанывало под обеими лопатками, под обвисшей, дряблой кожей. По
всему измученному, вытрясенному до костей телу шла испепеляющая работа, не
одну, не две, а сразу несколько скрипучих сухостоин качала болезнь в глубине
человеческого нутра, туда-сюда катала немазаную телегу. "Воспаление", --
словно бы услышав смертный приговор кому-то из близких и бессильный
облегчить участь приговоренного, Аким мучился тем, что сам вот остается
жить, дышать, до человека же рукой подать, но он как бы недоступен и все
удаляется, удаляется...
Не дал Аким ходу таким мыслям, переборол свою расслабленность и
растерянность, перетряхнул аптечку, назвал себя вслух молодцом за то, что
среди самых ценных грузов захватил ее с первым ходком в долбленке. Невелика
аптечка, да и ту друг Колька навязал, а ценность ее в том, что главные в ней
лекарства -- против простуды. Обихаживая избушку, Аким нагрел воды и вымыл
девушку, девочку ли на забросанном лапником полу.
Облеплял ее горчичниками, натирал спиртом, делал горячие компрессы,
отпаивал ягодным сиропом, суетился, бегал весь потный, задохшийся от жары,
но отчетливо помнил: надо экономно расходовать лекарства, больницы и аптеки
здесь нету. Лечить больную следует осторожно, жизнь в ней едва теплится, и
себя надо беречь, очень беречь. Первый день в одной рубахе, сопрелый шастал
на улицу, засопливел, давай скорее лечиться: пришлепал себе горчичники на
спину, докуда рука доставала, таблетку проглотил -- как рукой сняло, а то
шибко испугался -- запропадет он -- все, и все здесь, в изгоне, пропадут
вместе с ним.
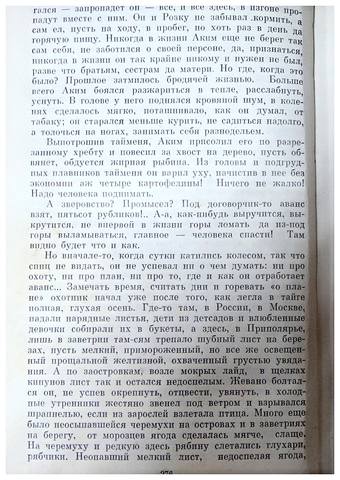
Он и Розку не забывал кормить, и сам ел, пусть на ходу, в
пробег, но хоть раз в день да горячую пищу. Никогда в жизни Аким еще не
берег так сам себя, не заботился о своей персоне, да, признаться, никогда в
жизни он так крайне никому и нужен не был, разве что братьям, сестрам да
матери. Но где, когда это было? Прошлое затмилось бродячей жизнью. Больше
всего Аким боялся разжариться в тепле, расслабнуть, уснуть. В голове у него
поднялся кровяной шум, в коленях сделалось мягко, поташнивало, как он думал,
от табаку; он старался меньше курить, не садиться надолго, а толчись на
ногах, занимать себя разнодельем.
Выпотрошив тайменя, Аким присолил его по разрезанному хребту и повесил
за хвост на дерево, пусть обвянет, обдуется жирная рыбина. Из кусочка головы
и подгрудных плавников тайменя он варил уху, начистив в нее без экономии аж
четыре картофелины! Ничего не жалко! Надо человека поднимать.
А зверовство? Промысел? Под договорчик-то аванс взят, пятьсот
рубликов!.. А-а, как-нибудь выручится, выкрутится, не впервой в жизни горы
ломать, да из-под горы выламываться, главное -- человека спасти! Там видно
будет, что и как.
Но вначале-то, когда сутки катились колесом, так, что спиц не видать,
он не успевал ни о чем думать: ни про охоту, ни про план, ни про то, где и
как он отработает аванс... Замечать время, считать дни и горевать "о плане"
охотник начал уже после того, как легла в тайге полная, глухая осень. Где-то
там, в России, в Москве, падали нарядные листья, дети из детсадов и
влюбленные девочки собирали их в букеты, а здесь, в Приполярье, лишь в
заветрии там-сям трепало шубный лист на березах, пусть мелкий,
примороженный, но все же освещенный прощальной желтизной, охваченный грустью
увядания. А по заостровкам, возле мокрых лайд, в щелках кипунов лист так и
остался недоспелым. Жевано болтался он, не успев окрепнуть, отцвести,
увянуть, в холодные утренники жестяно звенел под ветром и взрывался
шрапнелью, если из зарослей взлетала птица. Много еще было неосыпавшейся
черемухи на островах и в заветриях на берегу, от морозцев ягода сделалась
мягче, слаще. На черемуху и редкую здесь рябину слетались глухари, рябчики.
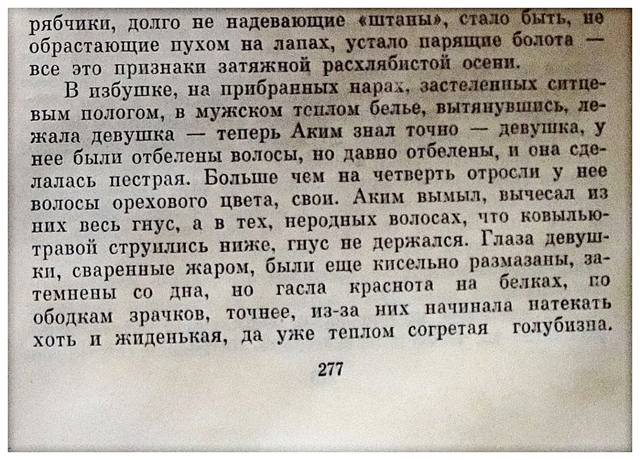
Неопавший мелкий лист, недоспелая ягода, рябчики, долго не надевающие
"штаны", стало быть, не обрастающие пухом на лапах, устало парящие болота --
все это признаки затяжной, расхлябистой осени.
В избушке, на прибранных нарах, застеленных ситцевым пологом, в мужском
теплом белье, вытянувшись, лежала девушка -- теперь Аким знал точно --
девушка, у нее были отбелены волосы, но давно отбелены, и она сделалась
пестрая. Больше чем на четверть отросли у нее волосы орехового цвета, свои.
Аким вымыл, вычесал из них весь гнус, а в тех, неродных волосах, что
ковылью-травой струились ниже, гнус не держался. Глаза девушки, сваренные
жаром, были еще кисельно размазаны, затемнены со дна, но уже гасла краснота
на белках, по ободкам зрачков, точнее, из-за них начинала натекать хоть и
жиденькая, но уже теплом согретая голубизна. Заостренные скулы девушки,
спекшиеся губы, тени в подглазьях, резко очерченные брови и ресницы,
все-все, как бы отдельно обозначенное и обложенное болезнью, виделось
отчетливо на бледном, истончившемся лице. Высокая, круто изогнутая шея в
мелких слабеньких жилках вызывала такую жалость, что и выразить невозможно.
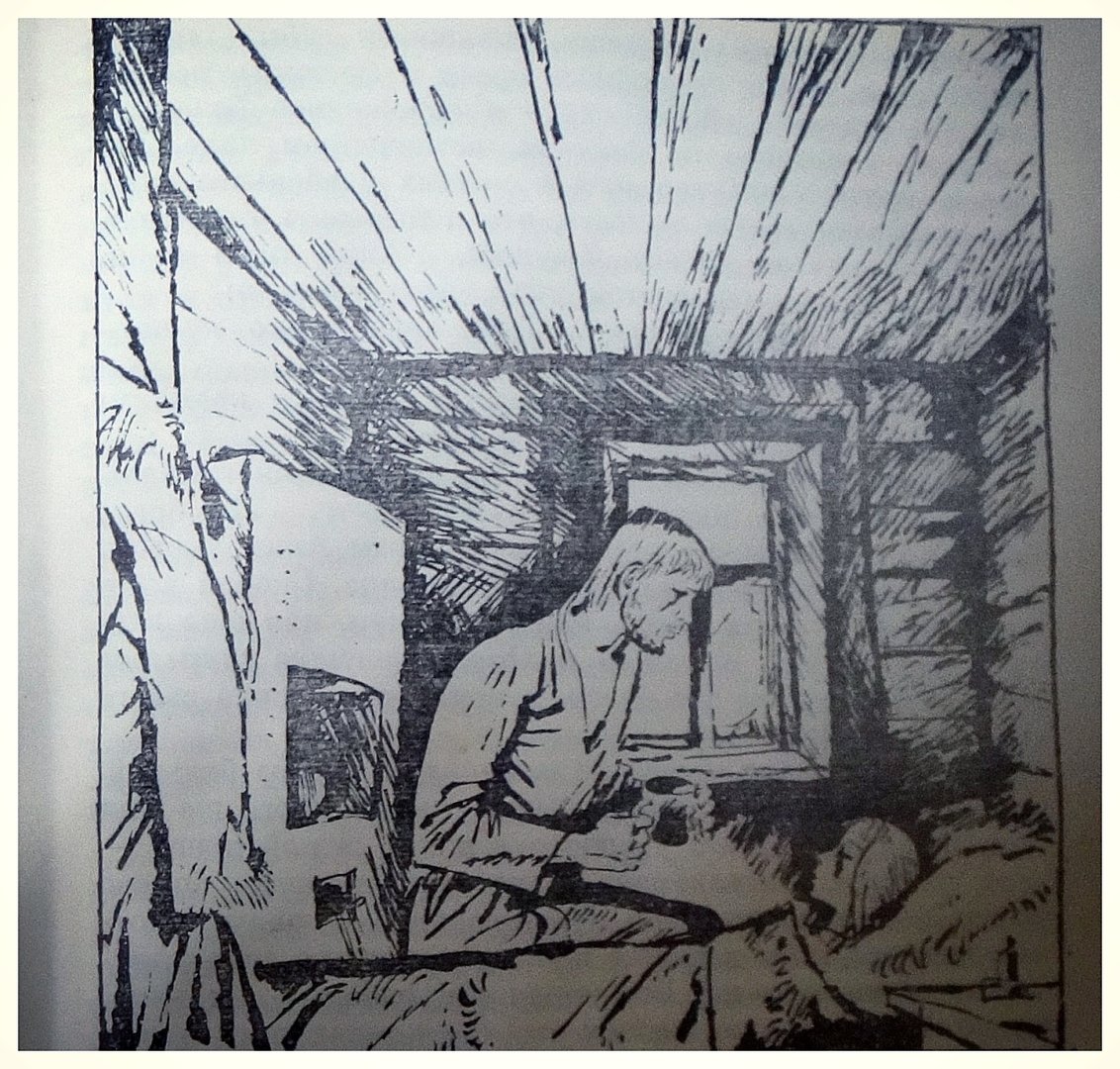
Придерживая голову девушки, Аким поил ее из кружки теплой, наваристой ухой,
приговаривая:
-- Пей! Пей! Кушай. Тебе надо много кушать. Ты меня понимаешь?
Девушка прижмурила ресницы и какое-то время не могла их открыть -- не
хватало сил.
-- Го-го! -- прогорготало ее горло. Больная пробовала поднять руку,
пытаясь показать что-то. По бреду больной, по вещам, по следам и порубкам
Аким уяснил: в избушке было двое, девушка и мужчина. Скорей всего мужчину-то
и звали Гогой или Григорием, или еще как-то, на букву "г", о нем-то и хотела
девушка попытать или сообщить, куда тот делся, и поискать просила своего
связчика, мужа ли.
Аким делал вид, будто не понимает просьбы больной, потому что одну ее
оставлять пока нельзя. Гога же или Григорий скорее всего утерялся в тайге, и
найти его -- дело длинное, головоломное, почти невозможное, однако искать
все равно придется. Приговоренно вздохнув, охотник вытирал девушке губы
полотенцем и про себя удручался: "Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Вот попал так попал -- ни
кина, ни охоты!" -- такую жалобу ему один товарищ-скиталец написал когда-то
с целинных земель. Акиму так смешно было, что сделалась та жалоба-вопль его
поговоркой.
И вот черная струйка градусника первый раз уперлась в красную
перекладину и замедлилась. Аким стряхнул градусник, снова сунул его девушке
под руку. Температура стояла на тридцати семи. Аким щелкнул пальцами, даже
стукнул себя по колену, утер лицо рукой и, шумно выдохнув: "Пор-рядок!" --
напоил больную отваром из трав и чаем с брусникой. Сразу стало невыносимо
держать себя на ногах, голову долило -- так убайкался за эти дни. Бросив
телогрейку на кедровый лапник, он собрался соснуть часок, но пробудился
засветло. Вскрикнув: "Ё-ка-лэ-мэ-нэ!" -- бросился к больной, думая, что она
умерла...
Нет, девушка не умерла и даже в сухом лежала. Но сил на то, чтобы
остаться сухой, потратила так много, что опять впала в забытье, и у нее
подскочила температура. "Фершал, н-на мать!" -- изругал себя Аким и стал на
ночь пускать в зимовье Розку. Собака поначалу от приглашения деликатно
уклонялась. Чувствовала себя в избушке стесненно, когда ни посмотришь --
шевельнет хвостом и к порогу. Но словно бы что-то уразумев, смирившись с
участью, с придавленным, бабьим стоном вздохнула и легла у дверей. Ночью
Розка часто вскидывала голову, смотрела на нары, принюхивалась и,
успокоившись, шарилась зубами в своей шерсти, выщелкивала кого-то,
зализывала взъерошенное место, приглаживая себя. Чуткому уху охотника и
такого шума доставало, чтоб не проваливаться на бесчувственное дно забытья,
а спать впросон.
Через неделю после того, как опала температура у больной, тайгу оглушил
первый звонкий утренник, и в это же утро, тяжело переворачивая язык, девушка
назвала свое имя -- Эля. Услышав себя, она растерялась, заплакала. Аким
гладил ее по голове, по чистому волосу, успокаивал, как умел. С того дня Эля
принялась торопливо есть, не стыдилась жадности -- накапливала силу. Чуть
окрепнув, уже настойчивей заговорила:
-- Надо Го-гу... Надо... Там... -- приподняв руку, показала больная в
сторону Эндэ.
Аким еще в первый день своего пребывания в зимовье обнаружил
зацепленную в щели бревна своедельную блесну с обломанным якорьком; на
подоконнике белели обрывки лесок, ржавело заводное колечко. "Рыбак! Ушел
рыбачить. Утонул, наверно. Где, как я его найду! А что, если?.." -- Аким
запрещал себе думать о том, что напарник девушки, муж ли, ушел, бросил ее --
столь черна была эта мысль. Утонул, заблудился, ушел ли неведомый тот Гога,
а искать его изволь -- таков закон тайги, искать в надежде, что человек не
пропал, ждет выручку, нуждается в помощи. Однако прежде следовало перевезти
от устья Эндэ груз. После стеклянистого утренника, после светлой этой,
короткой, предзимней тишины может разом пасть сырая непогодь, снежная заметь
и укрепится зима.
Натопив печку, поставив в изголовье девушки поллитровый термосок со
сладким чаем, Аким плыл вниз по Эндэ, слегка подправляя лодку легким
кормовым веселком, зорко оглядывал берега и за первым же шивером, на
обмыске, занесенном темным таежным песком, заваленном колодником, среди
которого хозяйски стоял приосадистый кедр без вершины, приметил строчки
собольих следов и молчаливо, не по туловищу юрко стрельнувшую в кусты
парочку воронов. Аким подвернул к берегу. До пояса замытый песком, возле
воды лежал человек с выгрызенным горлом и попорченным лицом. "Когда утонул,
вода стояла выше, -- отметил Аким и томко, как-то даже безразлично размышлял
дальше: -- Дождей не было, тальцы в горах перехватило, снег там захряс, не
сочится".
Причитала ронжа на кедре, опустившем до земли полы старой, непродуваемо
мохнатой шубы. Было это главное в округе дерево, по главному-то и рубануло
молнией, отчекрыжило вершину, вот и раздался кедр вширь, разлапился, в
гущине рыжеют шишки, не оббитые ветром, крупные, отборные шишки. Одна вон
покатилась, сухо цепляясь за кору, пощелкивая о сучки. Ворон со старческим
ворчанием возился в кедре, сшевелил выветренную шишку. Где-то совсем близко
по-кошачьи шипел соболь -- вовсе это редко, потайная зверушка, не пуганая,
значит.
Под утопленником нарыты норки. Человек был не крупный, но грудастый,
круглокостный. Из глубины страшного, выеденного рта начищенно блестел
стальной зуб. Бакенбардики, когда-то форсистые, отклеились, сползли с кожей
щек к ушам, висели моховыми лохмотьями. Пустые глазницы прикрыло белесой
лесной паутиной.
"О-о-ох ты, разохты! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!" -- выдохнул Аким и, ко всему уже
готовый, но растревоженный железным зубом, бакенбардами и коротко, походно
стриженными волосами, принялся разгребать покойного. Вытащив труп из песка,
он первым делом глянул на кисть правой руки. На обезжиренной, выполосканной
до белизны коже руки, под первым, когда-то смуглым слоем, обновленно,
вылупленно голубела наколка "Гога" -- аккуратная наколка, мелконькая, не то,
что у Акима, уж ему-то на "Бедовом" наляпали якорей, кинжалов, русалок и
всякого зверья. Человек этот, Гога, умел беречь свое нагулянное тело.
Заставляя себя надеяться, что это все-таки наваждение -- больно много
всего на одного человека: сперва девка, часующая на нарах, теперь вот
мертвеца Бог послал, да еще как будто и знакомого, пускай не друга, не
товарища при жизни... Нет, почему же? Это он, Гога, не считал людей ни
друзьями, ни товарищами, он сам по себе и для себя жил, Акиму же любой
человек, в тайге встреченный, -- свой человек..." ...
Читать ... Сон о белых горах 01 *** Сон о белых горах 02
*** Сон о белых горах 03
*** Сон о белых горах 04
*** Сон о белых горах 05
*** Сон о белых горах 06
*** Сон о белых горах 07
*** Сон о белых горах 08
*** Сон о белых горах 09
Виктор Астафьев. Повествование в рассказах " Царь-рыба". Часть первая Иллюстрации художника В. ГАЛЬДЯЕВА к повествованию в рассказах Виктора Астафьева "Царь-рыба" *** повествование в рассказах, Страницы книги, Виктор Астафьев, текст, Сон о белых горах, книга, художник В. ГАЛЬДЯЕВ, Царь-, Сон о белых горах 01, чтение ***