"Свидетельство", ретроспектива Хаима Сокола в Московском музее современного искусства на Гоголевском

Вспомнил, что с весны за мной тянется внутренний должок - написать про весеннюю выставку Хаима Сокола во внутренних корпусах ММСИ, которая сильно меня разочаровала.
Я даже откорректировал дату своего приезда в Москву после полугодовалого укорота в Чердачинске, только чтобы застать эту экспозицию, и вот, мимо.
Между тем, мне нравится то, что делает Сокол с фактурами и я ждал большой его ретроспективы после некоторых инсталляций - с хозяйственным мылом в "Гараже" (на одной из московских биеннале он выставил концлагерь, бараки которого состояли из потрескавшихся брусков, называлось всё это "Котлован") и с копирками в "Новой Третьяковке": они, подсвеченные изнутри как лайтбоксы, превращались в эффектно осыпающиеся, "траченные молью" палимпсесты, ещё недавно украшали залы Новейших течений на Крымском валу, пока те не ликвидировали перед выставкой Ларионова.
Сокол берёт очевидные предметы, мимо разрушения которых обычный человек проходит не задумываясь о красоте, вводит в музейный контекст с минимальными правками, обращая в рукотворные руины с мощным экзистенциальным мессиджем.
Все эти листы ржавеющего железа, мутные стекла, просвечивающие листы, протёртые до дыр, дерюга загородительных тканей и половых тряпок, стоптанная обувь, на которой Сокол настаивает как последовательный фут-фетишист, метонимически заменяя ею фигуру человека (если можно избежать в работе фигуративности, художник бежит изображения людей до самого последнего, так как искусство его про следы и про исчезновение, про бытие-без-бытия и "все умерли") про меланхолию деконструкции и распыления, внезапной красоты "последнего прости" гниющей материи и обилие значимых объектов вокруг да около.
Это очень правильный поиск прекрасного в уродливой и дискомфортной повседневности, повышение уровня общей красоты жизни через изощрение зрения и эстетизации всего, что видит или не видит глаз - вплоть до самого последнего булыжника или красочных разводов на стене.
В российской хтони полным-полно таких неубранных следов и остатков чей-то неловкости, поэтому искусство Сокола (здесь я вижу в его предшественниках, с одной стороны, дзен-абстракциониста Андрея Красулина, способного сделать неувядаемое барокко из любого неподручного мусора, а с другой - Александра Бродского, певца руин и глиняных трещин, захватанных дверных проёмов, распускающихся ротондами шальной красоты и старинных оконных рам, из которых можно сделать Павильон для водочных церемоний - впрочем, я писал об искусстве хандры Бродского достаточно подробно, блин, уже девять лет назад, а недавно упомянул, в подобающем контексте монографии "Архитектура забвения", по новой) методологически и терапевтически крайне важное.
Хаим Сокол вполне мог бы стать нашим Ансельмом Кифером (его он вспоминает в своих интервью, кажется, чаще других), если бы не одно "но": искусство Сокола камерное и весьма интимное, тогда как объекты Кифера, ещё более хрупкие и фактурные, должны поражать своим непропорциональным гигантизмом.
У Сокола, впрочем, тоже есть объекты и инсталляции, способные занять отдельное большое помещение - на "Свидетельстве" был самый последний затемнённый зал с большим количеством вёдер, образующих замкнутую фигуру, однако, концепты таких творений оказываются явно меньше пространства, которое они занимают.
Чем больше и концептуальнее жест тем он выхолощеннее. Потому что и фактурка уходит на второй-третий план (если таковая вообще имеется, так как "остатки сладки" никогда не бывают монументальными - особенно если состоят из случайных, да даже если и целенаправленных находок), а мессидж съёживается до лобового, крайне политкорректного высказывания.
Искусство Сокола работает и прошибает без длинной дистанции - подобно холстам Марка Ротко, их следует разглядывать, покинув зону комфорта, впритык, чтобы чувствовать "запах из рта".
Иначе же, если они сделаны единым большим куском, то, вполне логично, такие инсталляции работают театральными декорациями. И ладно бы, что в отсутствии спектакля, но ещё и без мелочной, трудоёмкой выделки.
Татьяна Ильинична Сельвинская объясняла мне, что работу театральных цехов надо оценивать по бутафорской начинке, так как крупные вещи, от конструкции станков до полотнища задника, сделать гораздо проще мелкоскопических деталей.
Театру не веришь, театр обман, зато в маленьких вещицах, сооружённых с любовью, видны, если подойти к ним совсем близко, малейшие шероховатости насилия над материалом, приспособленного, вроде бы, для других нужд.
Ну, и драматический театр, как мне однажды сказала драматург Скороход, "предназначен для людей с тощим интеллектуальным кошельком, интеллектуалы ходят в оперу и на симфонические концерты".
Театральный крупняк во всём (даже в гриме лица) должен быть виден и понятен из последнего ряда.
Я к тому, что своим работам Сокол даёт правильные толкования - все они заряжены у него гуманистически понимаемой политикой и сочатся неолиберализмом.
Эти руины и следы чей-то деятельности не просто экземы экзистенциализма, как это принято в романах Винфрида Георга Макса нашего Зебальда, но мемориалы жертвам Холокоста и сталинских репрессий, сделанные по всем канонам актуальной "мемориальной культуры" в духе Алейды Ассман.
С почти обязательным портретом Беньямина на входе (портрет хороший, но лучше бы, методологически эффектней, не знать, чьё лицо в очочках он изображает), а также цитатами из Пауля Целана и, может быть, Осипа Мандельштама.
Воспринимать Мандельштама жертвой репрессий - как же это обедняет и выхолащивает его образ, мучительный и без того зыбкий?
Помимо жертв минувших времен, Сокол активно занимается и всевозможными мучениками, пораженными в правах, вроде гастарбайтеров и мигрантов.
Вектор экзистенциального отчаянья от этого, вроде бы, не меняется, раз уж гастарбайтеры - тоже люди: рассказывая об их беспросветности, усугубленной социальными лишениями, художник всё равно говорит о трагическом уделе человеческом, просто находя для этого всем понятную крупнозернистую форму.
Всё это - общественные формы бытия на людях, которые тоже могут трогать, если они трогательные: существуют объективные законы восприятия и когда художник (особенно этим любит злоупотреблять фон Триер) попадает в нерв, не сопротивляйся манипуляции, расслабься и получи удовольствие. Включи наивного зрителя.
Политическое искусство тоже может вышибать слезу и мурашки.
Но, при этом, возникает важное противоречие, разрушающее слияние с замыслом и, в конечном счёте, сводящее впечатление от выставке к комсомольскому диспуту с "за" и "против".
Потому что тонкость выделки отдельных, редких и рассеянных элементов, настраивающих на интимное восприятие глаза в глаза захлёбывается в широкоформатном потоке политкорректного мейнстрима, который художник должен надышать во все залы, выделенные ему под ретроспективу. Иначе, что, не справился?
Кураторская экспликация как раз и говорит о "первом масштабном музейном проекте художника", которому не хватило не то, чтобы архитектурно-дизайнерского решения, но концептуальной и пластической широты.
Для чего мне посещать ещё одну выставку про Холокост и Блокаду?
Я могу пойти на ретроспективу депрессивного меланхолика, чтобы отразиться в его страхах и фобиях и, таким образом, узнать себя или о себе, но общественно-политической информации у меня и без Хаима Сокола выше крыши, я давно привык её дозировать и получать в предсказуемых местах и заранее запланированных дозах.
Мне не нужно внимания Хаима Сокола, чтобы обратить внимание на бедственный быт гастарбайтеров - я его и их без Сокола вижу, мне от опытного художника что-то другое важно.
Пластическая убедительность, например.
Ну, или осязательная ценность.
И тогда, кстати, уже совершенно неважна степень авторской политизированности: Ансельм Кифер политизирован поболее других, но у него всё так рассчитано и размечено, что никто не остаётся голодным.
У политкорректности всегда цели перпендикулярные, она всегда немного про другое.
Не про то, что людям на выставке в данный момент интересно.
В худшем случае - про карьеру, в лучшем - про отдачу долга.
А главное-то, что ничем не маркированная суггестия всегда объёмнее (метафизичнее, симфоничнее) прямолинейного заказа, который ведь художнику никто не навяливал, он сам его на себя взгромоздил и тащится.
Потому что вот вся эта ржавчина, подтёки и кляксы - как музыка: если начинаешь расшифровку, мессидж спрямляется до обыкновенного сумбура.
Чистая экзистенция, без социальных примесей, всегда глубже и убедительней.
Хотя бы потому, что не все из нас евреи или гастарбайтеры, но все мы - смертные существа, все - человеки.



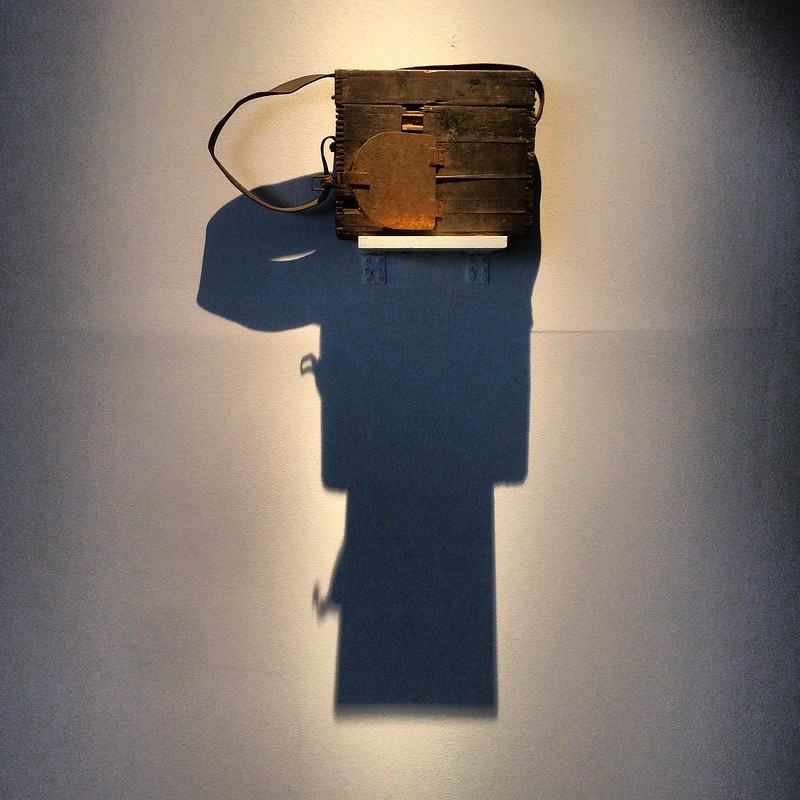









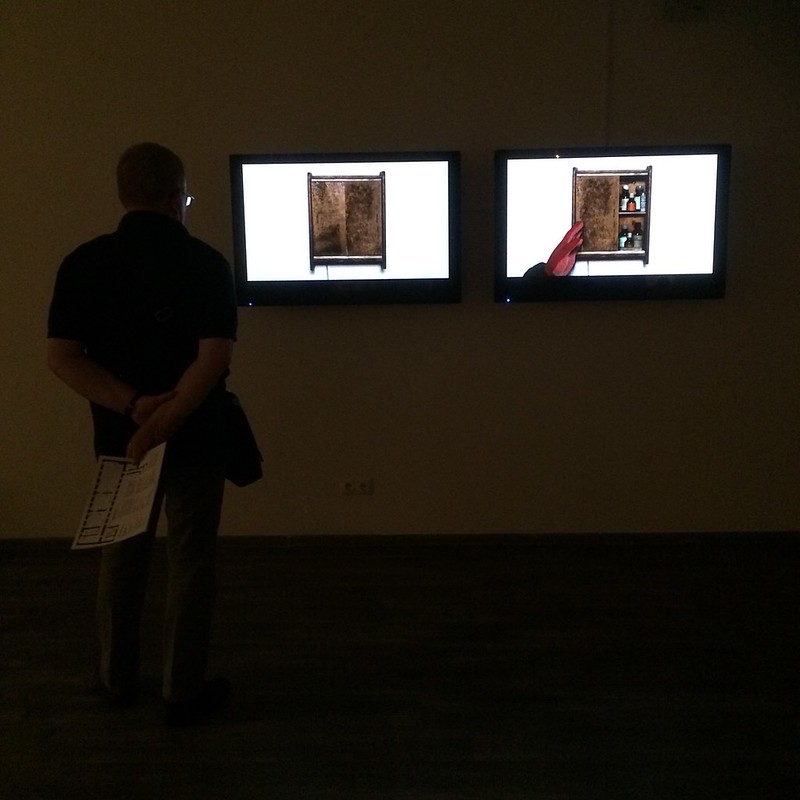










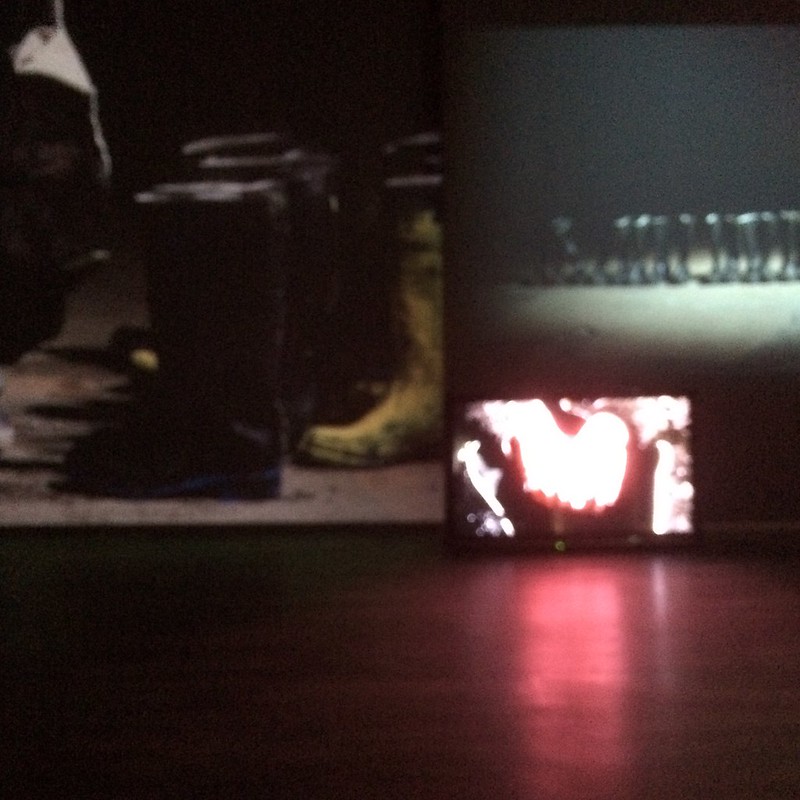




А здесь снимки из двора музея, активно вступающего в агрессивный диалог с посетителем, а также с выставки в центральном особняке ММСИ на Гоголевском Сергея Сапожникова "Танец" со схожими "архитектурными" проблемами, когда необходимость заполнить все залы анфилады приводит к жестам скоропалительным и достаточно поверхностным.












