Ну вот. Книга "Русские" Х. Смита добита мной. Остались отступления переводчика.
Я решил их делать, эти отступления, после того, как опубликую все 20 глав.
Не торопясь. В принципе они не сделаны только примерно в трёх главах, так что работы будет немного.
К тому же некоторые отступления легко переносятся из воспоминаний.

XX
Становятся ли они похожими на нас?
Я верю, что мы можем ее [Россию] спасти с помощью торговли. Коммерция оказывает отрезвляющее влияние… На мой взгляд, торговля положит конец жестокости, грабежам и грубости большевизма с большей степенью вероятности, чем любой другой способ.
Премьер министр Великобритании Ллойд Джордж
10 февраля 1922 года.
Подобно снегопаду, который начинается с нескольких неуверенных снежинок, потом начинает вьюжить и, наконец, перерастает в метель, новость про то, что советское правительство прекратило глушение, чего официально, впрочем, никогда не допускало, радиопередач Голоса Америки, Би Би Си и западногерманских радиостанций, распространилась среди русских.
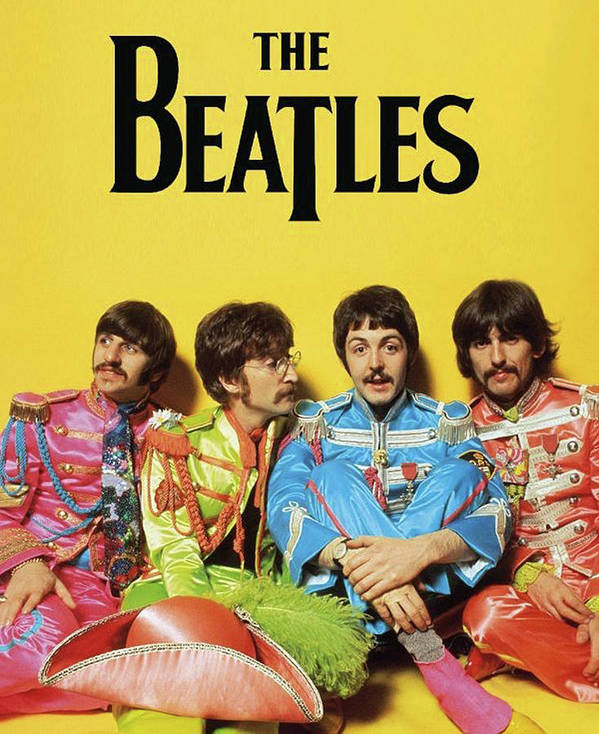
Это случилось в середине сентября 1973 года. Спустя несколько дней мы зашли в квартиру наших русских друзей, в семью, разработавшую сложную схему доставки из-за границы джинсов и французских духов, ухитрявшихся украсить свои книжные полки изданными за границей произведениями и могущих повесить на стене кухни постер с изображением группы Битлз. Их десятилетний сын Вася ходил по гостиной, приложив к уху портативный транзисторный приемник, его карие глаза сияли восторженным блеском, а по лицу растеклась довольная улыбка. “Он так ходит несколько последних дней со своим приёмником, слушает «Голос Америки» - сказала его мать. - И мы тоже слушаем».
Ещё один мой приятель, специалист по вычислительной технике, сказал мне, что в их НИИ лектор-коммунист выступал перед избранной аудиторией работников с политической лекцией об Андрее Сахарове. После вступительного слова лектора кто-то попросил его разъяснить, что же точно говорил Сахаров, ведь ни одно из его заявлений не публиковалось в советской печати, и он без обиняков заявил: «может быть, кто-то слушает иностранное радио и поделится с нами, что там говорят о Сахарове». Никто не принял его предложения, но сам этот случай говорил о том, какая поразительная перемена произошла всего за сутки.
Конечно, некоторые люди урывками слушали западные голоса всегда. Через несколько недель по прибытии в Советский Союз, в Кишиневе, столице советской Молдавии, меня пригласила в гости в старую квартиру в полуподвальном этаже супружеская чета. За закрытыми шторами я смотрел, как хозяин вертит ручки настройки старого, в виде ящика, коротковолнового радиоприёмника на длинных тонких ножках. В Сибири, в городе Братске мне в одном доме показали удивительную коллекцию западной рок музыки, которую составили участники молодёжного поп - ансамбля из магнитофонных записей передач «Голоса Америки».

Уиллис Коновер, специалист по джазу, ведет передачу “Музыка США” из своей студии “Голоса Америки” в Вашингтоне в марте 1959 года.
Английского языка они, на самом деле, не понимали, но один из них сказал, подражая густому сочному голосу диск жокея «This is Willis Conover bringing you Music USA», и все дружно рассмеялись. Во время прогулок по подмосковным лесам, на пикниках или дачах, или дома, в небольших, и среднего размера городах и посёлках, повсюду, от Карпат на Украине до дальневосточного тихоокеанского побережья, советские люди слушали иностранное радио годами. Но в больших городах «глушилки» делали это предприятие не только трудным, но и опасным.

Теперь, когда «голоса» глушить внезапно перестали, люди могли не только их слушать, но и допустить в разговоре, что слушали и раньше. Молодежь могла, не таясь, обмениваться кассетами с записями иностранной поп-музыки или продавать их. Их родители на работе могли со знанием дела рассуждать о новостях с войны Йом Кипур в 1973 году [1]. Специалист по ЭВМ средних лет, по его словам, впервые в жизни почувствовал влияние разрядки на свою личную жизнь. Конечно, он с облегчением узнал об улучшении советско-американских отношений «потому что все хотят мира». Но пока передачи глушили, он чувствовал, что разрядка была «для больших шишек, а не для нас».
Элементы такого рода, изложенные в иностранной прессе и привозимые домой отдельными иностранными туристами или делегациями бизнесменов, пробудили в очередной раз неизбежный вопрос: “Становятся ли они более похожими на нас?» Изменилась ли жизнь внутри России и становится ли она свободнее?
Эти предположения вполне закономерны. Я сам склонялся к ним, когда ехал в Москву. Благодаря мгновенным радио коммуникациям ХХ века, постоянным поездкам людей по миру и объявлению разрядки напряжённости между Востоком и Западом, мы склонны думать, что мир становится более однородным и превращается в глобальную деревню [2]. Почти аксиомой становится тот факт, что если лидеры Востока и Запада будут ладить друг с другом, а рядовые граждане будут летать на похожих реактивных лайнерах, приземляться в схожих аэропортах, ездить на подобных одна другой машинах, носить не сильно отличающиеся один от другого костюмы и галстуки (или джинсы и туфли на платформе), отправлять астронавтов в космос, строить атомные электростанции, поручать решение задач компьютерам, а сердца молодых людей будут стучать в общем ритме рок музыки, то образ жизни человека при капитализме и при коммунизме будет все более схожим. Ученые даже придумали для этого специальное слово «конвергенция», удобный и успокаивающий тезис о том, что массовое производство, с его широким масштабом и комплексной организацией процесса, наряду с современной технологией сегодняшних экономик увлекут эти две системы на сходные пути. Потом, как выходит по этой теории, экономическая и политическая системы тоже сольются, так как будут иметь дело со сходными проблемами, и естественным образом будут развивать сходные методики и институты.
Почти на каждом повороте советской истории после смерти Сталина, мы на Западе, и многие в самой России, ищем подтверждения надежды на эрозию жестокого тоталитаризма, выстроенного Сталиным. Решительный приговор Хрущева сталинскому террору в 1956 и 1961 году, казалось, разрушил тогда миф о непогрешимости компартии. Русские думали, кто-то в надежде (а кто-то в панике), что назойливое повсеместное провозглашение превосходства советского образа жизни прекратится. Культурный фермент Хрущевской оттепели - первый расцвет Евтушенко, Вознесенского, Солженицына и других, казалось бы, поставил либерализацию советской культурной и интеллектуальной жизни на новый, многообещающий и, как представлялось, необратимый путь. В 1950-е годы Запад поддерживал эту тенденцию, развивая культурный обмен с Москвой. Мы были одновременно удивлены и обрадованы публикацией за границей романа Пастернака «Доктор Живаго». Да, автора чернили, заставили отказаться от Нобелевской премии, и он умер в одиночестве.

Но его не ликвидировали физически, что наверняка случилось бы при Сталине. В середине 1960-х казалось, что либерализация идёт на подъем, когда сотни ученых и других либеральных интеллигентов, - некоторые из них были коммунистами - рискнули письменно протестовать против судов над писателями типа Андрея Синявского и Юлия Даниэля (фото), переправивших свои рукописи на Запад, и были наказаны теми, кто сменил Хрущева. Когда эта волна писем протеста пошла на убыль, и произошло отступление с завоёванных позиций, некоторые более трезвые головы заговорили о том, что воспитание новых поколений инженеров, технократов и специалистов по ЭВМ приведёт к размыванию влияния идеологии и принесет экономические и политические реформы. Наконец, наступила разрядка, явившаяся формальным признанием стратегического пата, и сопровождаемая готовностью Москвы торговать с капиталистами, доселе обвиняемыми во всех смертных грехах. И снова показалось, что советская система претерпевает фундаментальные изменения.
Советская жизнь настолько переполнена подводными течениями, - некоторые из них устремлены в противоположных направлениях - что ни один человек со стороны не сможет с уверенностью сказать, куда идёт советская Россия. Но некоторые тенденции к изменениям заметны, а отдельные изменения уже явно имеют место. Самое существенное из них, разумеется, это - прекращение сталинского произвольного сумасшедшего массового террора, иррационально проредившего высшие эшелоны партийного и военного руководства и уничтожившего миллионы простых граждан. Это - заслуга Хрущева. И хотя память о сталинском терроре и его наследие живы, для большинства русских, живущих сегодня, чувство освобождения от нависавших над ними опасности оказаться жертвой чисток, составляет непреложный жизненный факт.

Один раз, когда я выходил из нашей квартиры в гетто для иностранцев вместе с двумя молодыми супружескими парами, достаточно смелыми, чтобы пройти мимо охранников из тайной полиции, стоявших у наших ворот (фото Х. Смита), молодой супруг одной из пар испустил вздох облегчения и сказал: «При Сталине я никогда бы на такое не пошёл. Нам всем настал бы конец». Прошёл ли их поступок без неприятных для них последствий в брежневской России, я так и не узнал, потому что не мог больше до них дозвониться. Но я уверен в том, что даже если бы об этом когда-либо узнали, то наказание для них не было бы таким суровым, как при Сталине.
Почти таким же важным для тех русских, кого я знал, было радикальное изменение в стандартах жизни в Союзе по сравнению со сталинскими временами. При диктаторе из них выпивали почти всю кровь, и подавляющее большинство граждан не имело достойной пищи, жилья и приличной одежды. Их существование было практически сведено к жизни рабочего скота, вкалывающего на стройках коммунизма. Сейчас, в 1970-е годы, они переживают самое лучшее десятилетие в советской истории. Они по-прежнему бедны по стандартам промышленно развитого Запада, и вынуждены переживать магазинные мытарства, которые привели бы в уныние менее слабую расу. Но единственный стандарт сравнения, имеющийся у них в наличии, это - прошлое и, как очень многие русские мне говорили, они очень довольны тем, что «живут намного лучше, чем наши родители».

Советские дачи 1970х гг.
Более того, в верхнем слое среднего класса, состоящего из интеллектуалов, руководителей всякого рода, инженеров, писателей, танцоров балета и прочих, официально одобренный консьюмеризм разбудил буржуазный инстинкт приобретательства, подавляемый десятилетиями. В своём личном автомобиле, кооперативной квартире, на частной даче (пусть даже если она не больше сарайчика для хранения инструментов), они нашли жизненную нишу, где могут спрятаться от всепроникающего коллективизма. Сам факт обладания собственностью разогрел аппетит к ещё большему приобретательству и обострил неудовлетворенность плохим качеством советских потребительских товаров и услуг. Он также дал новый толчок чёрному рынку и целой контрэкономике, ставшей неотъемлемой частью советской системы.
Новый материализм, чего как раз и боялись старые, более ортодоксальные коммунисты, способствовал эрозии коммунистической идеологии.

Все поют одну песню под фонограмму идеологически выдержанных лозунгов, но все три года моего пребывания в Москве я не помню, чтобы хоть кто-нибудь убедительно подтвердил хотя бы раз то чувство, которое выразила журналист Евгения Гинзбург, так вспоминавшая о своей молодости, пронизанной идеалами большевизма: «Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но, если бы мне приказали …умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний [3]». Это было четыре десятилетия назад. Теперь такого рвения найти невозможно. Тем более, что оно больше и не нужно. Сейчас имеет значение лишь фасад политического конформизма. Потому что партия, держа чуткие ушки на макушке на предмет любого отклонения от верных идеологических убеждений, настаивает на внешнем проявлении преданности, а молодые амбициозные карьеристы стараются соответствовать, так как поняли, что партийный билет является пропуском на хорошую работу, в комфортную жизнь, а может быть и к поездкам за границу.
Возможно, что самым большим потенциалом для перемен изнутри советской системы являются те силы, которые осознают необходимость в крупной экономической реформе. Довольно далеко в стороне от немногочисленных откровенных диссидентов, выступающих за открытую многопартийную политическую систему внутри экономического истеблишмента, образовалась довольно ощутимая скрытая лояльная оппозиция, слой управляющих и технократов, которых беспокоит то, что они называют «стагнацией» советской экономики. Он состоит из людей, которые удовлетворены существующей политической структурой, но хотят модернизировать экономику, заставить ее работать рациональнее и при меньшем вмешательстве со стороны высшего партийного руководства и центральных планировщиков. Группа современно мыслящих математиков-экономистов поставила под сомнение разумность сверхцентрализованного планирования, унаследованного от Сталина, при котором жёстко поставленные конечные цели производства должны быть достигнуты любыми путями, и призвала к более гибкому подходу.
Всю главу смотреть здесь.
Не торопясь. В принципе они не сделаны только примерно в трёх главах, так что работы будет немного.
К тому же некоторые отступления легко переносятся из воспоминаний.

XX
Становятся ли они похожими на нас?
Я верю, что мы можем ее [Россию] спасти с помощью торговли. Коммерция оказывает отрезвляющее влияние… На мой взгляд, торговля положит конец жестокости, грабежам и грубости большевизма с большей степенью вероятности, чем любой другой способ.
Премьер министр Великобритании Ллойд Джордж
10 февраля 1922 года.
Подобно снегопаду, который начинается с нескольких неуверенных снежинок, потом начинает вьюжить и, наконец, перерастает в метель, новость про то, что советское правительство прекратило глушение, чего официально, впрочем, никогда не допускало, радиопередач Голоса Америки, Би Би Си и западногерманских радиостанций, распространилась среди русских.
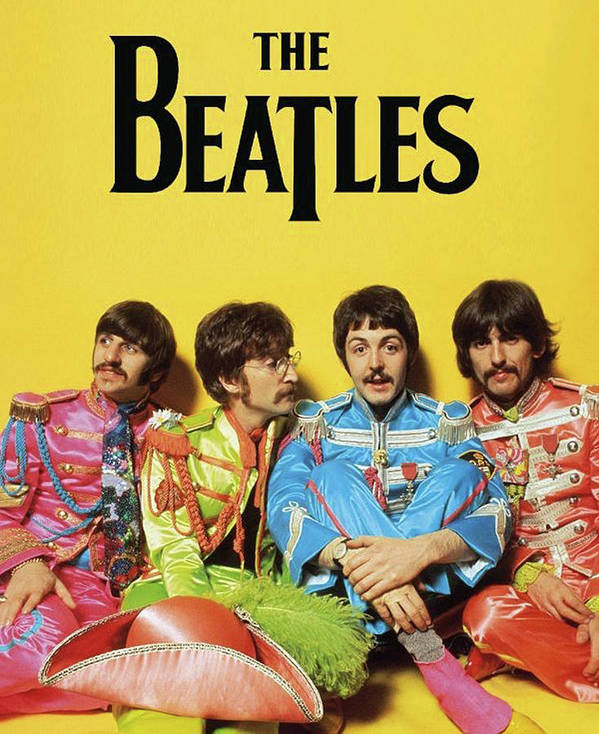
Это случилось в середине сентября 1973 года. Спустя несколько дней мы зашли в квартиру наших русских друзей, в семью, разработавшую сложную схему доставки из-за границы джинсов и французских духов, ухитрявшихся украсить свои книжные полки изданными за границей произведениями и могущих повесить на стене кухни постер с изображением группы Битлз. Их десятилетний сын Вася ходил по гостиной, приложив к уху портативный транзисторный приемник, его карие глаза сияли восторженным блеском, а по лицу растеклась довольная улыбка. “Он так ходит несколько последних дней со своим приёмником, слушает «Голос Америки» - сказала его мать. - И мы тоже слушаем».
Ещё один мой приятель, специалист по вычислительной технике, сказал мне, что в их НИИ лектор-коммунист выступал перед избранной аудиторией работников с политической лекцией об Андрее Сахарове. После вступительного слова лектора кто-то попросил его разъяснить, что же точно говорил Сахаров, ведь ни одно из его заявлений не публиковалось в советской печати, и он без обиняков заявил: «может быть, кто-то слушает иностранное радио и поделится с нами, что там говорят о Сахарове». Никто не принял его предложения, но сам этот случай говорил о том, какая поразительная перемена произошла всего за сутки.
Конечно, некоторые люди урывками слушали западные голоса всегда. Через несколько недель по прибытии в Советский Союз, в Кишиневе, столице советской Молдавии, меня пригласила в гости в старую квартиру в полуподвальном этаже супружеская чета. За закрытыми шторами я смотрел, как хозяин вертит ручки настройки старого, в виде ящика, коротковолнового радиоприёмника на длинных тонких ножках. В Сибири, в городе Братске мне в одном доме показали удивительную коллекцию западной рок музыки, которую составили участники молодёжного поп - ансамбля из магнитофонных записей передач «Голоса Америки».

Уиллис Коновер, специалист по джазу, ведет передачу “Музыка США” из своей студии “Голоса Америки” в Вашингтоне в марте 1959 года.
Английского языка они, на самом деле, не понимали, но один из них сказал, подражая густому сочному голосу диск жокея «This is Willis Conover bringing you Music USA», и все дружно рассмеялись. Во время прогулок по подмосковным лесам, на пикниках или дачах, или дома, в небольших, и среднего размера городах и посёлках, повсюду, от Карпат на Украине до дальневосточного тихоокеанского побережья, советские люди слушали иностранное радио годами. Но в больших городах «глушилки» делали это предприятие не только трудным, но и опасным.

Теперь, когда «голоса» глушить внезапно перестали, люди могли не только их слушать, но и допустить в разговоре, что слушали и раньше. Молодежь могла, не таясь, обмениваться кассетами с записями иностранной поп-музыки или продавать их. Их родители на работе могли со знанием дела рассуждать о новостях с войны Йом Кипур в 1973 году [1]. Специалист по ЭВМ средних лет, по его словам, впервые в жизни почувствовал влияние разрядки на свою личную жизнь. Конечно, он с облегчением узнал об улучшении советско-американских отношений «потому что все хотят мира». Но пока передачи глушили, он чувствовал, что разрядка была «для больших шишек, а не для нас».
Элементы такого рода, изложенные в иностранной прессе и привозимые домой отдельными иностранными туристами или делегациями бизнесменов, пробудили в очередной раз неизбежный вопрос: “Становятся ли они более похожими на нас?» Изменилась ли жизнь внутри России и становится ли она свободнее?
Эти предположения вполне закономерны. Я сам склонялся к ним, когда ехал в Москву. Благодаря мгновенным радио коммуникациям ХХ века, постоянным поездкам людей по миру и объявлению разрядки напряжённости между Востоком и Западом, мы склонны думать, что мир становится более однородным и превращается в глобальную деревню [2]. Почти аксиомой становится тот факт, что если лидеры Востока и Запада будут ладить друг с другом, а рядовые граждане будут летать на похожих реактивных лайнерах, приземляться в схожих аэропортах, ездить на подобных одна другой машинах, носить не сильно отличающиеся один от другого костюмы и галстуки (или джинсы и туфли на платформе), отправлять астронавтов в космос, строить атомные электростанции, поручать решение задач компьютерам, а сердца молодых людей будут стучать в общем ритме рок музыки, то образ жизни человека при капитализме и при коммунизме будет все более схожим. Ученые даже придумали для этого специальное слово «конвергенция», удобный и успокаивающий тезис о том, что массовое производство, с его широким масштабом и комплексной организацией процесса, наряду с современной технологией сегодняшних экономик увлекут эти две системы на сходные пути. Потом, как выходит по этой теории, экономическая и политическая системы тоже сольются, так как будут иметь дело со сходными проблемами, и естественным образом будут развивать сходные методики и институты.
Почти на каждом повороте советской истории после смерти Сталина, мы на Западе, и многие в самой России, ищем подтверждения надежды на эрозию жестокого тоталитаризма, выстроенного Сталиным. Решительный приговор Хрущева сталинскому террору в 1956 и 1961 году, казалось, разрушил тогда миф о непогрешимости компартии. Русские думали, кто-то в надежде (а кто-то в панике), что назойливое повсеместное провозглашение превосходства советского образа жизни прекратится. Культурный фермент Хрущевской оттепели - первый расцвет Евтушенко, Вознесенского, Солженицына и других, казалось бы, поставил либерализацию советской культурной и интеллектуальной жизни на новый, многообещающий и, как представлялось, необратимый путь. В 1950-е годы Запад поддерживал эту тенденцию, развивая культурный обмен с Москвой. Мы были одновременно удивлены и обрадованы публикацией за границей романа Пастернака «Доктор Живаго». Да, автора чернили, заставили отказаться от Нобелевской премии, и он умер в одиночестве.

Но его не ликвидировали физически, что наверняка случилось бы при Сталине. В середине 1960-х казалось, что либерализация идёт на подъем, когда сотни ученых и других либеральных интеллигентов, - некоторые из них были коммунистами - рискнули письменно протестовать против судов над писателями типа Андрея Синявского и Юлия Даниэля (фото), переправивших свои рукописи на Запад, и были наказаны теми, кто сменил Хрущева. Когда эта волна писем протеста пошла на убыль, и произошло отступление с завоёванных позиций, некоторые более трезвые головы заговорили о том, что воспитание новых поколений инженеров, технократов и специалистов по ЭВМ приведёт к размыванию влияния идеологии и принесет экономические и политические реформы. Наконец, наступила разрядка, явившаяся формальным признанием стратегического пата, и сопровождаемая готовностью Москвы торговать с капиталистами, доселе обвиняемыми во всех смертных грехах. И снова показалось, что советская система претерпевает фундаментальные изменения.
Советская жизнь настолько переполнена подводными течениями, - некоторые из них устремлены в противоположных направлениях - что ни один человек со стороны не сможет с уверенностью сказать, куда идёт советская Россия. Но некоторые тенденции к изменениям заметны, а отдельные изменения уже явно имеют место. Самое существенное из них, разумеется, это - прекращение сталинского произвольного сумасшедшего массового террора, иррационально проредившего высшие эшелоны партийного и военного руководства и уничтожившего миллионы простых граждан. Это - заслуга Хрущева. И хотя память о сталинском терроре и его наследие живы, для большинства русских, живущих сегодня, чувство освобождения от нависавших над ними опасности оказаться жертвой чисток, составляет непреложный жизненный факт.

Один раз, когда я выходил из нашей квартиры в гетто для иностранцев вместе с двумя молодыми супружескими парами, достаточно смелыми, чтобы пройти мимо охранников из тайной полиции, стоявших у наших ворот (фото Х. Смита), молодой супруг одной из пар испустил вздох облегчения и сказал: «При Сталине я никогда бы на такое не пошёл. Нам всем настал бы конец». Прошёл ли их поступок без неприятных для них последствий в брежневской России, я так и не узнал, потому что не мог больше до них дозвониться. Но я уверен в том, что даже если бы об этом когда-либо узнали, то наказание для них не было бы таким суровым, как при Сталине.
Почти таким же важным для тех русских, кого я знал, было радикальное изменение в стандартах жизни в Союзе по сравнению со сталинскими временами. При диктаторе из них выпивали почти всю кровь, и подавляющее большинство граждан не имело достойной пищи, жилья и приличной одежды. Их существование было практически сведено к жизни рабочего скота, вкалывающего на стройках коммунизма. Сейчас, в 1970-е годы, они переживают самое лучшее десятилетие в советской истории. Они по-прежнему бедны по стандартам промышленно развитого Запада, и вынуждены переживать магазинные мытарства, которые привели бы в уныние менее слабую расу. Но единственный стандарт сравнения, имеющийся у них в наличии, это - прошлое и, как очень многие русские мне говорили, они очень довольны тем, что «живут намного лучше, чем наши родители».

Советские дачи 1970х гг.
Более того, в верхнем слое среднего класса, состоящего из интеллектуалов, руководителей всякого рода, инженеров, писателей, танцоров балета и прочих, официально одобренный консьюмеризм разбудил буржуазный инстинкт приобретательства, подавляемый десятилетиями. В своём личном автомобиле, кооперативной квартире, на частной даче (пусть даже если она не больше сарайчика для хранения инструментов), они нашли жизненную нишу, где могут спрятаться от всепроникающего коллективизма. Сам факт обладания собственностью разогрел аппетит к ещё большему приобретательству и обострил неудовлетворенность плохим качеством советских потребительских товаров и услуг. Он также дал новый толчок чёрному рынку и целой контрэкономике, ставшей неотъемлемой частью советской системы.
Новый материализм, чего как раз и боялись старые, более ортодоксальные коммунисты, способствовал эрозии коммунистической идеологии.

Все поют одну песню под фонограмму идеологически выдержанных лозунгов, но все три года моего пребывания в Москве я не помню, чтобы хоть кто-нибудь убедительно подтвердил хотя бы раз то чувство, которое выразила журналист Евгения Гинзбург, так вспоминавшая о своей молодости, пронизанной идеалами большевизма: «Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но, если бы мне приказали …умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний [3]». Это было четыре десятилетия назад. Теперь такого рвения найти невозможно. Тем более, что оно больше и не нужно. Сейчас имеет значение лишь фасад политического конформизма. Потому что партия, держа чуткие ушки на макушке на предмет любого отклонения от верных идеологических убеждений, настаивает на внешнем проявлении преданности, а молодые амбициозные карьеристы стараются соответствовать, так как поняли, что партийный билет является пропуском на хорошую работу, в комфортную жизнь, а может быть и к поездкам за границу.
Возможно, что самым большим потенциалом для перемен изнутри советской системы являются те силы, которые осознают необходимость в крупной экономической реформе. Довольно далеко в стороне от немногочисленных откровенных диссидентов, выступающих за открытую многопартийную политическую систему внутри экономического истеблишмента, образовалась довольно ощутимая скрытая лояльная оппозиция, слой управляющих и технократов, которых беспокоит то, что они называют «стагнацией» советской экономики. Он состоит из людей, которые удовлетворены существующей политической структурой, но хотят модернизировать экономику, заставить ее работать рациональнее и при меньшем вмешательстве со стороны высшего партийного руководства и центральных планировщиков. Группа современно мыслящих математиков-экономистов поставила под сомнение разумность сверхцентрализованного планирования, унаследованного от Сталина, при котором жёстко поставленные конечные цели производства должны быть достигнуты любыми путями, и призвала к более гибкому подходу.
Всю главу смотреть здесь.