"Утешение философией" Боэций
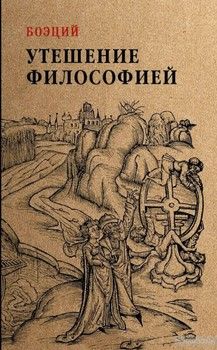
К новому переводу
Одолевшим землю, небо наградой.
Нормально, когда философский трактат читает преподаватель, ему для работы нужно. Нормально, когда студент (скрипя зубами и скрепя сердце) - ему для учебы. Ненормально, когда я, на сорок девятом году жизни, никакого отношения к философии не имеющая и не самого большого ума. Однако потребность читать работы философов время от времени настигает с неотвратимостью категорического императива, и, не умея противостоять, берусь за то, до чего удается дотянуться: от Платона до Кьеркегора. Наверно потому, что чтение философии особым образом организует мышление, на некоторое время придает аморфному четкую структуру. Для интеллекта как профилактический визит к стоматологу для полости рта. Нет, не ужасное сравнение: «Известно ли тебе, - говорит она, - что все сущее дотоле длится и существует, доколе оно едино, но гибнет и разрушается, как только перестает быть единым?» Необходимость содержать в порядке ум для меня залог единства. Есть ли для тебя что-нибудь драгоценнее тебя самого?
А началось с Боэция в 1996 году. Я тогда открыла для себя Андрея Лазарчука, читала подряд и в его «Транквилиуме» эпиграфы к частям романа взяты из «Утешения философией». Не знаю, способствовала ли любовь к автору более пристальному, чем обычно бывает, интересу к эпиграфам или слова Боэция так уж поразили, что совершенно увязла в обаянии писателя, но как-то получилось, что книга уже давно была прочитана и отложена (и перечитывалась после раза два), а те отрывки про «это самое место, которое ты называешь изгнанием», про «есть ли что на свете более ценное для тебя, чем ты сам», про « всякое различие разъединяет, а подобие стремится к подобию» - они впечатались в память, влились, как вода в сосуд, словно всегда там были. И случалось бессонными ночами, когда накатывал ужас перед жизнью (экзистенциальный?), повторять по кругу, как мантру. Убеждаясь, что утешение философией вещь действенная . По крайней мере, для меня.
Прочесть полностью не стремилась. Случая не выпадало и боялась, что непосредственный контакт убьет очарование первой любви. Пока не узнала о новом переводе Шмаракова. А к Роману Львовичу я с большой читательской любовью за «Овидия в изгнании» и «Каллиопу», и с куда меньшей за «Жнецов» и «Скворцов» (мои вкусы более тяготеют к мейнстриму, нежели к безупречным стилизациям). Однако написанное им умеет очищать ум от шелухи повседневности. Явился повод прочесть «Утешение философией». Дальше для себя, чтобы не потерять впечатления. Труд состоит из пяти книг, написан в форме платоновского диалога, наподобие «Государства», где роль Сократа отдана Философии, а с обязанностью Главкона задавать наводящие вопросы, горячо соглашаться и время от времени выражать осторожное недоверие, не без изящества справляется сам Бозций. Прозаические фрагменты перемежаются поэтическими вставками, долженствующими еще более укрепить читателя в добродетели, подытожить сказанное и наметить пути дальнейших рассуждений.
Первая книга знакомит читателя с рассказчиком и кратко обрисовывает беды-злосчастия, обрушившиеся на него по вине доноса недостойных противников. Стеная над злосчастной судьбой и не находя утешения, Боэций удостаивается визите прекрасной дамы. Не подумайте худого, это персонификация Философии (а последующий долгий диалог между ними дает положительный ответ на вечный вопрос «возможна ли между мужчиной и женщиной дружба без сексуального подтекста»). Итак, Философия является, дабы утешить адепта, объясняя ему, что главная причина сегодняшних его несчастий в том, что под градом обрушившихся неприятностей, он позволил себе забыть о том, что есть он сам. Возвращение в себя и к себе решено начать с гомеопатических средств, постепенно переходя к сильнейшим и увеличивая дозы, когда пораженный душевной хворью организм достаточно укрепится, чтобы воспринять лекарство..
Книга вторая посвящена рассуждениям о Фортуне, на переменчивость которой Боэций сетует. Как дважды два Философия доказывает ему, что сему обстоятельству следует радоваться, а не огорчаться, потому что: во-первых сам он, его жена, дети и тесть (тесть, о да!) живы, здравствуют и пребывают в приличных должностях (кроме жены). Во-вторых внутренняя сущность Фортуны такова, что она представляет собой колесо: за подъемом неизбежен спад, а за спадом последует новый подъем. В-третьих, если у тебя что-то отнялось, так оно, верно, не очень и нужно было, а если чем хорошим обладаешь, то заслуга в том не твоя, но эссенциальное достоинство предмета.
Книга третья знаменует переход от умягчающих припарок к более радикальным средствам. Поговорим о Благе, что оно есть и отчего все к нему стремятся. Поочередно выдвигая на передний план соблазны, к которым влекутся люди: власть, богатство, популярность, Философия опровергает абсолютную ценность, показывая червоточину в каждом из них, искаженных мирским восприятием. Но нельзя отрицать, что существует абсолютное благо и оно есть Бог и содержится в Боге. Все, что не Он - есть обман, ложные блага, которые принимаются за истинные, но ведут взыскующего к гибели. А подлинное благо в единстве, нарушив которое, человек погибает. - Ну а как же злонравные люди, - возражает Боэций, - живут ведь и в ус не дуют. - Они ошибаются, думая, что живут, на самом деле они мертвы. Кому как, а мне этот поворот разговора нравится и живо напомнил любимый кусочек из пелевинского «Затворника и Шестипалого»: - Все, что люди делают., они делают ради любви. - А как же многие живут без любви. - Они ошибаются, думая, что живут. Виктор Олегович, наверно, тоже утешался философией.
Книга четвертая переходит к тяжелым и темным материям внешнего выражения всегда торжествующей добродетели и всегда наказанного злонравия, и концепции, согласно которой человека злого необходимо жалеть, ибо сам он уже достаточной мерой наказан. Я перечитала трижды, но воспринять смогла лишь приняв априорность загробного воздаяния, метампсихоза или теории инкарнаций. В противном случае, если оперировать понятием «здесь и сейчас» - быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным, вы, воля ваша, профессор, что-то нескладное придумали. Оно может и умно, но больно непонятно.
Книга пятая посвящена большей частью предвиденью и предопределенности и тут уж я заблудилась в сумрачном лесу. Никак не хватило моего малого разумения на постижение хитросплетенных аргументов. Спасла внутренняя непоколебимая убежденность в том, что мир устроен правильно и справедливо в глобальном смысле, как бы локальные его проявления ни убеждали наблюдателя в обратном. Полагаю, что главный посыл пятой книги в том и заключается.