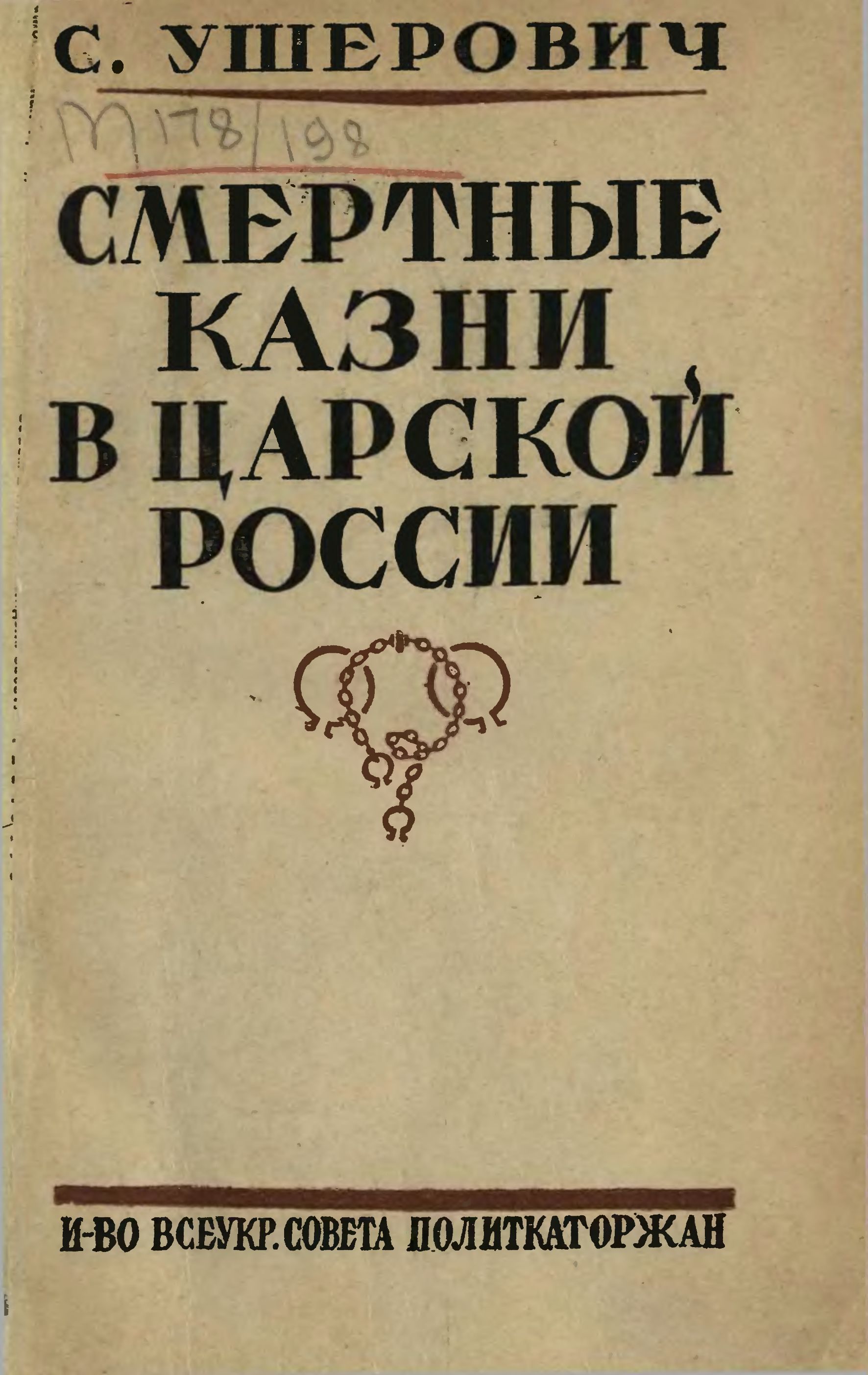Ушерович о казнях в Рокомпоте. Часть I: Карательные экспедиции в Москве, Сибири и Забайкалье
Из книги Саула Ушеровича «Смертные казни в царской России».
14 октября 1905 г., накануне царского манифеста, на улицах Петербурга было расклеено объявление от имени петербургского генерал-губернатора Дмитрия Трепова, в котором он заявляет, что войскам и полиции отдан приказ немедленно и самым решительным образом подавлять попытки произвести беспорядки. При оказании же к тому со стороны толпы сопротивления - «холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Петербургскому диктатору Трепову вторили и прочие диктаторы России, Сибири, Прибалтики: холостых залпов не давали, боевых патронов не жалели, устраивали погромы.
[Читать далее]Однако во многих местностях России и Сибири, несмотря на массовые расстрелы, карательным экспедициям пришлось завоевывать волость за волостью, уезд за уездом.
Растерявшееся правительство отдает приказ губернаторам и генерал-губернаторам действовать по своему усмотрению, беспощадно, не останавливаясь перед применением оружия и предания «бунтовщиков» смертной казни.
В циркуляре губернаторам от 30 ноября 1905 г. министр внутренних дел писал:
«Прошу Вас: 1) всех подстрекателей, зачинщиков и революционных агитаторов, которые не арестованы судебной властью, задержать и войти безотлагательно с представлением о высылке их под надзор полиции; 2) никаких особых дознаний по сему предмету, а равно и допросов не производить, а ограничиваться протоколом, в котором должны указать причины ареста и краткие сведения, удостоверяющие виновность; 3) если заведомые агитаторы освобождены судебными властями, то оставлять их под стражей и поступать по пункту второму; 4) в случае ареста учителей, фельшеров и других служащих в земских учреждениях, а равно посторонних лиц или приезжих, не обращать внимания на мятежные протесты разных самозванных союзов и делегаций; 5) не обращать внимания на угрозы собраний и митингов, и в случае необходимости самым решительным образом разгонять протестующих силою, с употреблением, согласно закона, если нужно, оружия; 6) представления должны быть сделаны безотлагательно; 7) вообще всякие колебания при исполнении предыдущего не должны быть допускаемы»...
Для подавления вооруженного восстания часть московского гарнизона, как ненадежная, была разоружена и заперта в казармах. «Надежная» часть подавить восстание была не в силах. Генерал-губернатор Дубасов выпросил помощь из Петербурга. Оттуда были направлены под командой полковника Мина Семеновский и Ладожский полки.
Для характеристики действий этих отрядов приведем здесь приказ Мина о назначении карательной экспедиции для подавления вооруженного восстания на Московско-Казанской железной дороге. Экспедиция была послана во главе с полковником Риманом в составе 8 рот, 2 пулеметов и 2 орудий.
Приказ № 349, 15 декабря 1905 г.
«…арестованных не иметь и действовать беспощадно. Каждый дом, из которого будет произведен выстрел, уничтожить огнем или артиллерией...
На станции Сортировочная оставить одну роту, назначение которой - не допускать движения поездов в Москву заграждая путь шпалами, выбрасывая сигнал «остановка», и в случае неповиновения открыть огонь...
Перевязочные пункты устроить: один пункт на ст. Перово (один врач и один фельдшер) и второй на ст. Люберцы (один врач и один фельдшер)...»
Полковник Риман точно по приказу: арестованных не имел и действовал беспощадно. Живые расстреливались, раненые добивались.
В приказе значится, что необходимо устроить два перевязочных пункта, которые действительно были устроены, но не для раненых повстанцев или случайных жертв из населения, а исключительно для лиц, действующих в составе карательной экспедиции.
Полковник Риман собственноручно расстрелял около 100 человек и по его приказу расстреляно около 800 человек. Насытившись кровью рабочих железнодорожников, он, перед своим отъездом из Люберец, собрал на смерть перепуганных крестьян и окрестных жителей и держал перед ними следующую «речь».
«Я послан царем восстановить спокойствие и порядок.
Но не все главари пойманы: многие убежали и скрылись. Царь надеется на вас, что вы сами будете следить за порядком и не дадите вновь овладеть собою кучке революционеров.
Если ораторы вернутся, убивайте их, убивайте чем попало - топором, дубиной. Вы не ответите за это. Если сами не сладите, известите семеновцев, мы снова приедем».
Солдаты лейб-гвардии Семеновского полка (сынки зажиточных кулаков) настолько «отличились» при подавлении московского вооруженного восстания, что удостоились следующих царских наград:
201 нижний чин награждены медалями за усердие,
144 - медалями за храбрость,
73 - знаками отличия ордена святой Анны.
О действиях карательной экспедиции полковника Римана на Московско-Казанской жел. дор. в декабрьские дни 1905 г. В. Владимиров так сообщает:
«Мною было опрошено и записано показаний более 25 человек, материал получился такой обширный и ужасный по темъ кровавым происшествиям, по отсутствии причин, простоте, с которой отнималась жизнь у люйей, по тем жестоким, мучениям, которые причинялись людям без надобности, без цели, только для того, чтобы мучить, убивать.
Девочка 10 лет, Настя, при виде, как револьверным выстрелом офицер убил ее родного брата на ее глазах, бросилась в испуге к матери и закричала: «Какие они злые, какие злые глаза; мама, они нас убьют сейчас»... Потом гордо выпрямилась, приблизилась к офицеру и крикнула в лицо: «зачем убили моего Ваню, убейте и меня».
Оана старушка, свидетельница расправы карательного отряда полковника Римана над ее мужем, рассказывала:
«Это еще, слава богу, с моим мужем-то милостиво обошлись: попороли штыками, да и бросили, а вот тут, недалеко от моих окон, шли двое, в них выстрелили, они упали - солдаты бросились и ну их штыками... Пороли, пороли, потом бросили, видят еще идут двое и тех так же.
Я кричу: «Батюшки, батюшки, да что же это такое делается? Убили их».
В это время я не знала, что с моим-то также покончили. Не отхожу от окна и все смотрю. Солдаты недалеко от пути встали во фрунт, с ними офицер. Вдруг вижу: один-то из четырех, лежавших на снегу, зашевелился, должно быть, застонал еще, так солдат подошел к нему, подержал за одежду - видит шевелится, и ну его штыком пороть: порол, порол - надо думать запорол совсем и опять отошел в сторону. Не прошло и 20-ти минут, как этот-то опять зашевелился, - головой замотал, - страсть живуч был, солдат в сердцах опять подошел и штыком доколол его, а потом и офицер подошел и выстрелил ему в голову»...
Кровавый поход Римана под командованием Мина закончился производством последнего в генералы, о чем радостно сообщает царь Николай своей матери:
«Семеновский полк вернулся 31 декабря (1905). Мин явился и завтракал с нами, он рассказывал много интересного... Он, как всегда, был в духе и благодарил от имени полка за то, что их послали в Москву усмирять мятеж. Дубасов особенно просил произвести Мина в генералы, что я и сделал, конечно, назначив его в свиту».
К октябрьскому восстанию 1905 г. в России примкнули трудовые массы Сибири и Забайкалья...
Масштаб восстания и его размах вызвали полнейшую растерянность у военных и гражданских властей. Иркутский генерал-губернатор, граф Кутайсов, 19 октября 1905 г. телеграфировал царю:
«Положение отчаянное, войск почти нет, бунт полный, всеобщий, сообщений ни с кем. Опасаюсь подкреплений бунтовщиков прибывающими ж.-д. рабочими. На усмирение надежд пока мало. Прошу разрешения объявить военное положение, дав мне лично самые обширные права телеграфом. Граф Кутайсов».
На эту телеграмму Кутайсов получил обширную инструкцию от министра внутренних дел Дурново, в которой он требовал беспощадных действий против восставших. Иркутск же, как главный тыловой район действовавшей армии в русско-японскую войну, имел чрезвычайно объемистый, горючий материал: мобилизованную армию, вовсе не настроенную в пользу подавления восстания и продолжения войны с Японией, а наоборот, и это обстоятельство вызвало еще большую расстерянность графа Кутайсова, который 5 ноября 1905 г. телеграфно ответил министру Дурново:
«…все меры, на которые вы указываете, из-за одного чувства самосохранения должны быть приняты, но для этого нужна власть и войска, а ни того, ни другого нет. Чтобы войска действовали твердо и решительно, нужно избавиться от запасных и кормить хорошенько тех, которые в строю, а этого не делается. Запрещение митингов идет в разрез с манифестом и вашими же инструкциями, а кроме того, запрещать на бумаге легче, чем не допускать на деле. Аресты при настоящем положении дела невозможны и могут кончиться бесполезным кровопролитием и освобождением арестованных. Брожение между войсками громадное, и если будут беспорядки, то они могут кончиться только смертью тех немногих, которые еще верны государю. На войска расчитывать трудно, а на население еще меньше. Вообще положение отчаянное, а от петербургского правительства, не отвечающего даже на телеграммы, я кроме советов ничего не получаю».
Нервничал не только граф Кутайсов, теряли почву под ногами полиция, жандармерия, поскольку боевое, революционное действие по Сибири и Забайкалью усиливалось с каждым днем.
Департамент полиции со своей стороны добивался от иркутских жандармов принятия «крутых мер» по ликвидации восстания в Иркутском округе, но ротмистр Гаврилов только руками разводил и беспомощно 19 декабря 1905 г. сообщил департаменту полиции:
«19 декабря, по болезни ген. Кайгородова, в управление губернией вступил вице-губернатор Мишин, до того никаких мер к прекращению телеграфной забастовки не принималось. По настоянию последнего отдан приказ об увольнении забастовщиков. Арестовано 9 членов комитета... Полиция деморализована. Пристава подали в отставку. Некоторые чины заболели. Городовые уходят. Оставшиеся полицейские чины уклоняются от исполнения следственных действий по политическим делам. Фактически полиции не существует. Исполняющий должность полицеймейстера исправник Шапшай беспомощен, просит устранения, исполняющий должность губернатора Лавров заболел. Новых заместителей нет... Административной гражданской власти нет... Привести в исполнение распоряжения по телеграмме от 26 декабря при существующем положении невозможно».
Правительство, окончательно потеряв надежду на «восстановление порядка» по Сибири силами гражданских властей, через председателя комитета министров графа Витте взывает к помощи военных властей, о чем Витте 26 декабря 1905 г. телеграфировал командующему войсками Сибирского военного округа ген. Сухотину:
«Обращаюсь к вам не официально, а по долгу к царю и родине. Необходимо во что бы то ни стало водворить порядок на Сибирской дороге и уничтожить революцию в сибирских центрах…»
Одновременно министр внутренних дел Дурново тоже взывал к ген. Сухотину о ликвидации «мятежа» и послал ему 2 января 1906 г. следующую телеграмму.
«Признаю необходимым: 1) главных виновных и производивших насилия по почтово-телеграфному мятежу немедленно судить военным судом за бунт против верховной власти и привести в исполнение приговоры о тягчайшем наказании;
2) второстепенных почтовых мятежников немедленно посадить в тюрьму и держать, согласно военному положению, не менее 3-х месяцев;
3) главных революционеров, а равно всех членов стачечных комитетов судить военным судом по обвинению в бунте против верховной власти и приговоры исполнить;
4) никаких митингов, собраний и шествий не дозволять, а собравшихся разгонять без всякого снисхождения силою оружия;
5) все предыдущее распространяется на лиц всех званий;
6) чиновников, дозволивших себе революционные действия, устранять от службы;
7) вообще подавить мятеж самыми суровыми мерами»…
Когда же ген. Сухотин пожаловался министру на недостаточность (читай: ненадежность) воинской силы для проведения арестов огромной массы восставших, министр Дурново 3 января 1906 г. ему ответил:
«Вполне понимаю затруднения, которые вам приходится преодолевать при исполнении тяжелой задачи подавления мятежа.Тем не менее, необходимо избегать арестов и истреблять мятежников на месте или немедленно судить военным судом и казнить. Никто ареста не боится и потому настоятельно нужно сокрушить мятеж так, чтобы больше никогда ничего подобного не повторилось. Особенно заслуживают кары телеграфисты и инженеры».
Однако ген. Сухотин все же оказался бессильным подавить революционное движение в Сибири и Забайкальи и ему в помощь были посланы карательные отряды генералов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского, о чем 12 января 1906 г. Николай Романов (последний царь) писал своей матери:
«Николаше (Николай Николаевич) пришла отличная мысль, которую он предложил: из России послан Меллер-Закомельский с войсками и жандармами и пулеметами в Сибирь до Иркутска, а из Харбина Ренненкампф ему навстречу. Обоим поручено восстановить порядок на станциях и в городах, хватать всех бунтовщиков и наказывать их, не стесняясь строгостью. Я думаю, что через две недели они съедутся и тогда в Сибири сразу все успокоится.
Там на железной дороге инженеры и их помощники - поляки и жиды; вся забастовка, а потом и революция, была устроена ими при помощи сбитых с толку рабочих»...
Отправляя Ренненкампфа на усмирение «поляков, жидов, телеграфистов и инженеров», Николай второй дал ему следующую «путевку»:
«Безотлагательно возложить на ген. Ренненкампфа восстановление среди всех служащих на Забайкальских и Сибирской ж. д. полного с их стороны подчинения требованиям законных властей.
Для достижения этого применить все меры.
Всякое вмешательство постороннего и законом не предусмотренного влияния на железнодорожных служащих должно быть устраняемо быстро и с беспощадной строгостью».
И когда Ренненкампф стал продвигаться из Манджурии к Чите и Иркутску, он на каждой ж.-д. станции сталкивался с препятствиями, вытекающими из активных революционных действий партизанских отрядов. Это обстоятельство вынудило его опубликовать приказ за № 2…
«…Не желающие подчиниться существующим законам и законным властям пусть удалятся со службы в течение 24 часов с момента получения настоящего приказа; на каждой станции в недельный срок они должны очистить занимаемые ими казенные помещения. Вторичный их прием на службу запрещен раз навсегда.
Предупреждаю, в случае вооруженного сопротивления и бунта против верховной власти, я прибегну к беспощадным мерам...
…никакие заявления незнания этого приказа приниматься не будут...»
Но «сбитые с толку рабочие» (слова Николая II) не испугались приказа Ренненкампфа и на своем общем собрании (рабочих и служащих ст. Чита-вокзал), состоявшемся 14 января 1906 г., приняли следующую резолюцию:
Принимая во внимание:
1) что ген. Ренненкампф в приказе № 2 заявляет о своем явном намерении подавить революционное движение;
2) что он не будет останавливаться для этого в выборе средств, не исключая ни репрессий, ни лжи (что он и делает в своем приказе);
3) что застращиванием он хочет, чтобы мы добровольно стали по-прежнему покорными рабами падающего самодержавия;
4) что никаких забастовок у нас нет, а, наоборот, благодаря деятельности смешанных комитетов перевозка войск усилилась до 6-8 воинских поездов;
5) что правительство и его агенты сами стараются всеми силами тормозить перевозку войск и продовольствия;
6) что анархия в России создается не революционным народом, а правительством и его агентами, вроде Ренненкампфа, мы, рабочие и служащие, заявляем:
а) что не отказываемся от своих прежних политических убеждений и не будем распускать наших политических организаций, которые Ренненкампф именует преступными,
б) что не будем давать никаких подписок, кроме подписки бороться с самодержавием до конца, и в 24 часа убираться не будем,
в) что против репрессивных мер, которые вздумает принять генерал волчьей сотни, будем бороться всеми силами, не стесняясь выбором средств, и вместе с тем требуем немедленного освобождения арестованных товарищей по линии и отмены военно-полевого суда.
Ренненкампф и Меллер-Закомельский, в ответ на героическое упорство восставших революционных масс, подражали Риману и Мину: «арестованных не имели и действовали беспощадно».
Характерны краткие приказы Меллера: «пятьдесят плетей и расстрелять...»
О своих похождениях по Сибири и Забайкалью генерал Меллер-Закомельский ежедневно телеграфно докладывал царю:
«…Сибирской и Забайкальской дороги все служащие, телеграфисты, рабочие почти сплошь революционеры... Необходимы строгие меры. На станции Мысовая расстрелял трех телеграфистов, двух членов комитетов, двух пропагандировавших среди эшелонов запасных...»
Ренненкампф тоже отчитывался перед царем:
«…Перед моим приездом прибывший сутками раньше ген. Сычевский был в мастерских и увещевал подчиниться моим требованиям. Появился раскол в партиях, затем началась паника от распространившихся слухов о моих действиях...
Газеты революционного направления во всей области приказал закрыть, типографии запечать, редакторов и издателей арестовать... Продвигаюсь не особенно быстро, так как произвожу основательную очистку ж.-д. линии...»
О похождениях Меллера-Закомельского по Сибири и Забайкалью председатель комитета министров граф Витте спешно докладывал царю:
«…Чита сдалась без боя. Но неужели все это дело тем и кончится. Позволяю себе всеподданнейше доложить, что, по моему мнению, необходимо немедленно судить военным судом всех виновных...»
Ознакомившись с докладом Витте, царь, в письме к своей матери (Марии Федоровне) дал Витте следующую оценку:
«Витте после московских (1905) событий резко изменился: теперь он хочет всех вешать и расстреливать.
Я никогда не видел такого хамелеона или человека, меняющего свои убеждения, как он. Благодаря этому свойству характера почти никто больше ему не верит, он окончательно потопил самого себя в глазах всех, может быть, исключая заграничных жидов»...
Николай Романов не только интересовался ходом «ликвидации мятежа», но и лично интересовался каждой казнью, совершенной экзекуторами Ренненкампфом и Меллер-Закомельским, о чем его по телеграфу информировал ген. Гродеков:
«…1) приговором временного военного суда в Чите, конфирмованным ген. Ренненкампфом, осуждены 5 ж.-д. служащих и рабочих на смертную казнь и 8 - в каторжные работы, сроком от 8 до 4 лет; 2) на линии Забайкальской дороги и во Владивостокском крепостном районе спокойно...»
«Спокойно» - пишет генерал и по его мнению, совершенные казни тоже способствовали «спокойствию». 20 февраля 1906 г. царь получил от ген. Гродекова очередную «радостную» телеграмму: «Приговорами временного военного суда на ст. Хилок, утвержденными ген. Ренненкампфом, 18 февраля 8 чел. казнены смертью, 11 чел. осуждены в каторжные работы на сроки от 4 лет до бессрочных, 2 - к тюремному заключению. Все осужденные из числа рабочих и служащих Забайкальской ж. д.».
«Слава» о действиях отряда Меллера-Закомельского и Ренненкампфа быстро распространилась по всей Сибири и многие почтово-телеграфные служащие, даже не примкнувшие к восстанию, побросали работу, что побудило начальника почтово-телеграфного округа послать Ренненкампфу следующую телеграмму: «Телеграфисты, запуганные произведенными расстрелами ген. Меллером, не являются на службу. Покорнейшая просьба, гарантировать их личную безопасность для несения службы...»
Революционное движение по Сибири и Забайкалью из города перебросилось на село, в результате чего крестьяне приступили к экспроприации помещичьих и царских земель и лесных участков. …31 января 1906 г. военный губернатор Забайкальской области предписал начальникам областей, чтобы они, в случае вынесения приговоров… «с подстрекателями, призывающими крестьян к уничтожению прав собственности на земли, поступали согласно телеграммы мин. вн. дел от 3 января 1906 г.», т. е. судили военным судом и казнили.
Как Ренненкампф «налаживал» порядок в «завоеванной» области, видно из следующих данных:
В Верхнеудинске им был расстрелян железнодорожник только за то, что у него было найдено охотничье ружье. Литераторы Окунцов, Шинкман и Мирский были приговорены Ренненкампфом к смертной казни за печатание революционных статей.
Директор верхнеудинского реального училища Окунцов в газете «Наша жизнь» писал:
«Меня, как фактического реактора «Верхнеудинского листка», Шинкмана и Мирского, как сотрудников, генерал Ренненкампф особенно возлюбил и вот уже четвертую неделю возит в вагоне в своем поезде. Для устрашения или в качества заложников он зорко следит за нами и показывает нам всякие ужасы. Он заставил нас пережить казнь пяти наших товарищей по заключению в Верхнеудинске, восьми на ст. Хилок и четырех в Чите. Намечены еще жертвы. Военный суд Ренненкампфа 25 февраля (1906 г.) вынес нам смертный приговор через повешение. И это несмотря на то, что из 36 свидетелей -30 показало в наше оправдание. Нас обвиняли в издании «Верхнеудинского листка», в каком-то вооруженном восстании (о нем никто в Верхнеудинске никогда не слыхал) с целью ниспровержения существующего государственного строя. В частности мне приписали стремление революционизировать учащихся через союз учащихся при помощи пения революционных песен и речей. Нашего защитника суд не допускал к защите. Я и мои товарищи ежеминутно ждем смерти…»
На станции Хилок (Забайкалье) Ренненкампф расстрелял 4 юношей и 15-тилетнего мальчика только за то, что они поколотили машиниста и тем «способствовали низвержению существующего государственного строя» (буквальное выражение из обвинительного акта). Там же пом. машиниста Марчинский был расстрелян только за то, что выразил желание охладить паровоз, что по обвинительному акту сильно способствовало ниспровержению государственного строя.
Генерал Ренненкампф в своей вешательской деятельности не уступал ни одному карателю из числа действовавших тогда по России и не мог он мириться с «мягкими» приговорами, где не фигурировало любимое Ренненкампфом слово: «вешать». Когда 16 марта 1906 г. Ренненкампф предал военному суду 45 солдат 3-го резервного ж. д. батальона по обвинению их в «беспорядках» в конце 1905 г. в Чите и за «расхищение оружия с целью снабжения им рабочих, участие и выступление на митингах, оскорбление действием командира роты, выборы депутатов в совет солдатских и казачьих депутатов, участие в вооруженной демонстрации, предъявление требований командиру батальона, распространение воззваний, агитация среди товарищей»... и суд приговорил 18 подсудимых к каторжным работам и тюремным заключениям, 28 подсудимых оправдал - генерал Ренненкампф заявил решительный протест против этого «мягкого» приговора, по поводу этого он писал ген. Гродекову:
«Столь мягкий приговор по сравнению с преступлениями, значившимися в обвинительном акте… не может служить к водворению порядка и восстановлению дисциплины, сильно пошатнувшейся в здешних войсках, и является крайне несправедливым по отношению гражданских лиц, приговоры о которых были вынесены значительно строже. По долгу службы откровенно докладываю вашему высокопревосходительству, что подобный суд с подобными приговорами, по моему глубокому убеждению, сослужит только отрицательную службу престолу и России. Это последнее совершенно несовместимо с моим отношением к обязанностям...»
Наряду с массовыми революционными действиями восставших по городам, селам и на ст. ж. д. Забайкальской обл., начались террористические акты против полицейских и карателей, что вынудило Ренненкампфа усилить репрессии, о чем и говорит его приказ № 7:
«…в случае покушения с политической целью на жизнь лиц меня сопровождающих, чинов жандармской полиии или служащих на железной дороге через час после покушения все арестованые находящиеся при эшелонах и сданные в тюрьму, как заложники, будут расстреляны…»
Но Ренненкампф не ограничивался репрессиями против прямых участников революционного движения, он не оставлял без своего «высокого» внимания и семей казненных, предложив начальнику Верхнеудинского уезда принять меры к тому, чтобы «семьи казненных политических преступников немедленно выехали за пределы Забайкальской области. В случае нежелания выселить административно».
Надежды Ренненкампфа карательными действиями «раз и навсегда ликвидировать крамолу» не оправдались и в то время, когда не было дня без расстрелов и экзекуций, когда достаточно было указать пальцем на любого рабочего и прибавить слово: «забастовщик», чтобы подвести этого рабочего под расстрел или долголетнюю каторгу.
Рабочие читинских ж. д. мастерских, в день открытия 1-й госуд. думы (27 апреля 1906 г.), когда начальник этих мастерских предложил им участвовать на молебне, устроили демонстрацию, о чем немедленно было доложено Ренненкампфу:
«Сегодня, 27 апреля (1906) небольшая часть мастеровых, придя на молебен о здравии государя императора и августейшего семейства перед молебном и после него пропела революционные песни. Однако мое приказание разойтись было исполнено беспрекословно...»
«Доблестный» генерал Ренненкампф за январь-февраль 1906 г. имел 450 заложников и 41 казненного. …«карательный» поезд ген. Ренненкампфа представлял из себя передвижную крепость: на первых вагонах видны были дула пушек и стоявшие со штыками солдаты, на последующих вагонах выставлены пулеметы, числом до 20, с стоящими позади наводчиками... На площадках вагонов стояли офицеры на карауле. В двух вагонах, охраняемых солидным конвоем, - заложники...
Сибирский палач Меллер-Закомельский в своем докладе Николаю Романову в январе 1906 г. писал:
«Агитаторы в своей дерзости дошли до того, что на станции Омск один из них стал раздавать прокламации нижним чинам вверенного мне отряда, за что был сильно избит ими.
Другой, около станции Иланской, вскочил на ходу в мой поезд, начал пропаганду среди нижних чинов, но был выброшен на ходу и вряд ли когда либо возобновит свою преступную деятельность.
Два таких агитатора, из которых один был в военной форме, выданные эшелонами запасных на станции Мысовой и вполне уличенные в их преступной деятельности по найденным у них прокламациям и по их собственному признанию, были расстреляны.
На станции стоял эшелон терско-кубанского полка, я распорядился взять полсотни этого эшелона и с частью своего отряда и ротой охраны станции Иланской послал оцепить депо, где была сходка. Когда нижние чины вошли в депо, по ним открыли огонь. Они ответили тем же и в один миг всех разогнали, причем, как оказалось впоследствии, из числа застигнутых в депо было 19 убито, 70 ранено и 70 человек арестовано.
Главные виновники, телеграфисты и члены стачечного комитета, взятые с оружием в руках, после точного выяснения их виновности и собственного их признания были мною расстреляны на станции Мысовой - 5 человек и на станции Могзон - 7 человек»...
Награжденный царем за «тяжелые труды» по Сибири и Забайкалью, Меллер-Закомельский получает назначение усмирять и подавлять революцию в Прибалтике.
Кровавый смерч по Сибири и Забайкалью за январь - февраль 1906 г. под предводительством Ренненкампфа и Меллера по далеко неполным данным насчитывает: за январь - арестованных - 875, казненных - 14, убитых - 81 ч., выпоротых - 220 чел., раненых - 135 чел.; за февраль - арестованных - 120 чел., осужденных- 31 чел., казненных - 2 чел.
О «покорении» Забайкалья Ренненкампфом и Меллер-Закомельским в феврале - марте 1906 г. «Сибирское Обозрение» отмечает:
«Оба генерала страстно желали «взять» Читу... Меллер-Закомельский первый взял Верхнеудинск, Хилок и Мысовск. Затем эти станции «брал*» Ренненкампф. При «покорении» Забайкалья у Ренненкампфа не было ни Мукдена, ни Цусимы, ни Порт-Артура, ни Ляояна, здесь были только блестящие победы, в результате которых ни одной потери у себя, потому что война велась с мирными жителями и даже не с революционерами. «Неприятель» потерял убитыми: в Мысовске - шесть, Верхнеудинске - пять, Чите - четыре, ст. Хилок - пятнадцать, станция Борзя - один, итого тридцать один казненный, кроме того, сослано на каторгу несколько сот, да арестовано было несколько сотен».
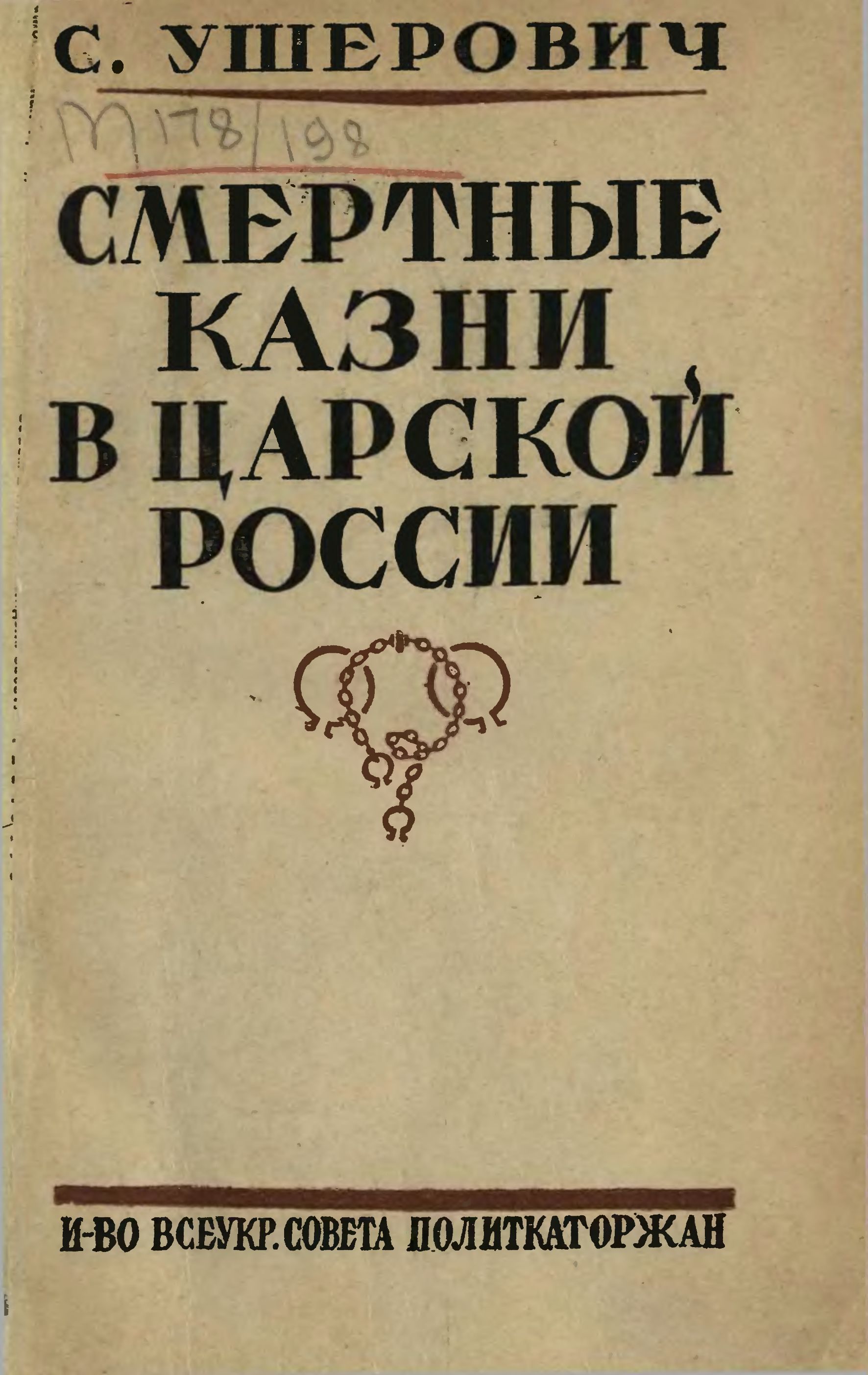
14 октября 1905 г., накануне царского манифеста, на улицах Петербурга было расклеено объявление от имени петербургского генерал-губернатора Дмитрия Трепова, в котором он заявляет, что войскам и полиции отдан приказ немедленно и самым решительным образом подавлять попытки произвести беспорядки. При оказании же к тому со стороны толпы сопротивления - «холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Петербургскому диктатору Трепову вторили и прочие диктаторы России, Сибири, Прибалтики: холостых залпов не давали, боевых патронов не жалели, устраивали погромы.
[Читать далее]Однако во многих местностях России и Сибири, несмотря на массовые расстрелы, карательным экспедициям пришлось завоевывать волость за волостью, уезд за уездом.
Растерявшееся правительство отдает приказ губернаторам и генерал-губернаторам действовать по своему усмотрению, беспощадно, не останавливаясь перед применением оружия и предания «бунтовщиков» смертной казни.
В циркуляре губернаторам от 30 ноября 1905 г. министр внутренних дел писал:
«Прошу Вас: 1) всех подстрекателей, зачинщиков и революционных агитаторов, которые не арестованы судебной властью, задержать и войти безотлагательно с представлением о высылке их под надзор полиции; 2) никаких особых дознаний по сему предмету, а равно и допросов не производить, а ограничиваться протоколом, в котором должны указать причины ареста и краткие сведения, удостоверяющие виновность; 3) если заведомые агитаторы освобождены судебными властями, то оставлять их под стражей и поступать по пункту второму; 4) в случае ареста учителей, фельшеров и других служащих в земских учреждениях, а равно посторонних лиц или приезжих, не обращать внимания на мятежные протесты разных самозванных союзов и делегаций; 5) не обращать внимания на угрозы собраний и митингов, и в случае необходимости самым решительным образом разгонять протестующих силою, с употреблением, согласно закона, если нужно, оружия; 6) представления должны быть сделаны безотлагательно; 7) вообще всякие колебания при исполнении предыдущего не должны быть допускаемы»...
Для подавления вооруженного восстания часть московского гарнизона, как ненадежная, была разоружена и заперта в казармах. «Надежная» часть подавить восстание была не в силах. Генерал-губернатор Дубасов выпросил помощь из Петербурга. Оттуда были направлены под командой полковника Мина Семеновский и Ладожский полки.
Для характеристики действий этих отрядов приведем здесь приказ Мина о назначении карательной экспедиции для подавления вооруженного восстания на Московско-Казанской железной дороге. Экспедиция была послана во главе с полковником Риманом в составе 8 рот, 2 пулеметов и 2 орудий.
Приказ № 349, 15 декабря 1905 г.
«…арестованных не иметь и действовать беспощадно. Каждый дом, из которого будет произведен выстрел, уничтожить огнем или артиллерией...
На станции Сортировочная оставить одну роту, назначение которой - не допускать движения поездов в Москву заграждая путь шпалами, выбрасывая сигнал «остановка», и в случае неповиновения открыть огонь...
Перевязочные пункты устроить: один пункт на ст. Перово (один врач и один фельдшер) и второй на ст. Люберцы (один врач и один фельдшер)...»
Полковник Риман точно по приказу: арестованных не имел и действовал беспощадно. Живые расстреливались, раненые добивались.
В приказе значится, что необходимо устроить два перевязочных пункта, которые действительно были устроены, но не для раненых повстанцев или случайных жертв из населения, а исключительно для лиц, действующих в составе карательной экспедиции.
Полковник Риман собственноручно расстрелял около 100 человек и по его приказу расстреляно около 800 человек. Насытившись кровью рабочих железнодорожников, он, перед своим отъездом из Люберец, собрал на смерть перепуганных крестьян и окрестных жителей и держал перед ними следующую «речь».
«Я послан царем восстановить спокойствие и порядок.
Но не все главари пойманы: многие убежали и скрылись. Царь надеется на вас, что вы сами будете следить за порядком и не дадите вновь овладеть собою кучке революционеров.
Если ораторы вернутся, убивайте их, убивайте чем попало - топором, дубиной. Вы не ответите за это. Если сами не сладите, известите семеновцев, мы снова приедем».
Солдаты лейб-гвардии Семеновского полка (сынки зажиточных кулаков) настолько «отличились» при подавлении московского вооруженного восстания, что удостоились следующих царских наград:
201 нижний чин награждены медалями за усердие,
144 - медалями за храбрость,
73 - знаками отличия ордена святой Анны.
О действиях карательной экспедиции полковника Римана на Московско-Казанской жел. дор. в декабрьские дни 1905 г. В. Владимиров так сообщает:
«Мною было опрошено и записано показаний более 25 человек, материал получился такой обширный и ужасный по темъ кровавым происшествиям, по отсутствии причин, простоте, с которой отнималась жизнь у люйей, по тем жестоким, мучениям, которые причинялись людям без надобности, без цели, только для того, чтобы мучить, убивать.
Девочка 10 лет, Настя, при виде, как револьверным выстрелом офицер убил ее родного брата на ее глазах, бросилась в испуге к матери и закричала: «Какие они злые, какие злые глаза; мама, они нас убьют сейчас»... Потом гордо выпрямилась, приблизилась к офицеру и крикнула в лицо: «зачем убили моего Ваню, убейте и меня».
Оана старушка, свидетельница расправы карательного отряда полковника Римана над ее мужем, рассказывала:
«Это еще, слава богу, с моим мужем-то милостиво обошлись: попороли штыками, да и бросили, а вот тут, недалеко от моих окон, шли двое, в них выстрелили, они упали - солдаты бросились и ну их штыками... Пороли, пороли, потом бросили, видят еще идут двое и тех так же.
Я кричу: «Батюшки, батюшки, да что же это такое делается? Убили их».
В это время я не знала, что с моим-то также покончили. Не отхожу от окна и все смотрю. Солдаты недалеко от пути встали во фрунт, с ними офицер. Вдруг вижу: один-то из четырех, лежавших на снегу, зашевелился, должно быть, застонал еще, так солдат подошел к нему, подержал за одежду - видит шевелится, и ну его штыком пороть: порол, порол - надо думать запорол совсем и опять отошел в сторону. Не прошло и 20-ти минут, как этот-то опять зашевелился, - головой замотал, - страсть живуч был, солдат в сердцах опять подошел и штыком доколол его, а потом и офицер подошел и выстрелил ему в голову»...
Кровавый поход Римана под командованием Мина закончился производством последнего в генералы, о чем радостно сообщает царь Николай своей матери:
«Семеновский полк вернулся 31 декабря (1905). Мин явился и завтракал с нами, он рассказывал много интересного... Он, как всегда, был в духе и благодарил от имени полка за то, что их послали в Москву усмирять мятеж. Дубасов особенно просил произвести Мина в генералы, что я и сделал, конечно, назначив его в свиту».
К октябрьскому восстанию 1905 г. в России примкнули трудовые массы Сибири и Забайкалья...
Масштаб восстания и его размах вызвали полнейшую растерянность у военных и гражданских властей. Иркутский генерал-губернатор, граф Кутайсов, 19 октября 1905 г. телеграфировал царю:
«Положение отчаянное, войск почти нет, бунт полный, всеобщий, сообщений ни с кем. Опасаюсь подкреплений бунтовщиков прибывающими ж.-д. рабочими. На усмирение надежд пока мало. Прошу разрешения объявить военное положение, дав мне лично самые обширные права телеграфом. Граф Кутайсов».
На эту телеграмму Кутайсов получил обширную инструкцию от министра внутренних дел Дурново, в которой он требовал беспощадных действий против восставших. Иркутск же, как главный тыловой район действовавшей армии в русско-японскую войну, имел чрезвычайно объемистый, горючий материал: мобилизованную армию, вовсе не настроенную в пользу подавления восстания и продолжения войны с Японией, а наоборот, и это обстоятельство вызвало еще большую расстерянность графа Кутайсова, который 5 ноября 1905 г. телеграфно ответил министру Дурново:
«…все меры, на которые вы указываете, из-за одного чувства самосохранения должны быть приняты, но для этого нужна власть и войска, а ни того, ни другого нет. Чтобы войска действовали твердо и решительно, нужно избавиться от запасных и кормить хорошенько тех, которые в строю, а этого не делается. Запрещение митингов идет в разрез с манифестом и вашими же инструкциями, а кроме того, запрещать на бумаге легче, чем не допускать на деле. Аресты при настоящем положении дела невозможны и могут кончиться бесполезным кровопролитием и освобождением арестованных. Брожение между войсками громадное, и если будут беспорядки, то они могут кончиться только смертью тех немногих, которые еще верны государю. На войска расчитывать трудно, а на население еще меньше. Вообще положение отчаянное, а от петербургского правительства, не отвечающего даже на телеграммы, я кроме советов ничего не получаю».
Нервничал не только граф Кутайсов, теряли почву под ногами полиция, жандармерия, поскольку боевое, революционное действие по Сибири и Забайкалью усиливалось с каждым днем.
Департамент полиции со своей стороны добивался от иркутских жандармов принятия «крутых мер» по ликвидации восстания в Иркутском округе, но ротмистр Гаврилов только руками разводил и беспомощно 19 декабря 1905 г. сообщил департаменту полиции:
«19 декабря, по болезни ген. Кайгородова, в управление губернией вступил вице-губернатор Мишин, до того никаких мер к прекращению телеграфной забастовки не принималось. По настоянию последнего отдан приказ об увольнении забастовщиков. Арестовано 9 членов комитета... Полиция деморализована. Пристава подали в отставку. Некоторые чины заболели. Городовые уходят. Оставшиеся полицейские чины уклоняются от исполнения следственных действий по политическим делам. Фактически полиции не существует. Исполняющий должность полицеймейстера исправник Шапшай беспомощен, просит устранения, исполняющий должность губернатора Лавров заболел. Новых заместителей нет... Административной гражданской власти нет... Привести в исполнение распоряжения по телеграмме от 26 декабря при существующем положении невозможно».
Правительство, окончательно потеряв надежду на «восстановление порядка» по Сибири силами гражданских властей, через председателя комитета министров графа Витте взывает к помощи военных властей, о чем Витте 26 декабря 1905 г. телеграфировал командующему войсками Сибирского военного округа ген. Сухотину:
«Обращаюсь к вам не официально, а по долгу к царю и родине. Необходимо во что бы то ни стало водворить порядок на Сибирской дороге и уничтожить революцию в сибирских центрах…»
Одновременно министр внутренних дел Дурново тоже взывал к ген. Сухотину о ликвидации «мятежа» и послал ему 2 января 1906 г. следующую телеграмму.
«Признаю необходимым: 1) главных виновных и производивших насилия по почтово-телеграфному мятежу немедленно судить военным судом за бунт против верховной власти и привести в исполнение приговоры о тягчайшем наказании;
2) второстепенных почтовых мятежников немедленно посадить в тюрьму и держать, согласно военному положению, не менее 3-х месяцев;
3) главных революционеров, а равно всех членов стачечных комитетов судить военным судом по обвинению в бунте против верховной власти и приговоры исполнить;
4) никаких митингов, собраний и шествий не дозволять, а собравшихся разгонять без всякого снисхождения силою оружия;
5) все предыдущее распространяется на лиц всех званий;
6) чиновников, дозволивших себе революционные действия, устранять от службы;
7) вообще подавить мятеж самыми суровыми мерами»…
Когда же ген. Сухотин пожаловался министру на недостаточность (читай: ненадежность) воинской силы для проведения арестов огромной массы восставших, министр Дурново 3 января 1906 г. ему ответил:
«Вполне понимаю затруднения, которые вам приходится преодолевать при исполнении тяжелой задачи подавления мятежа.Тем не менее, необходимо избегать арестов и истреблять мятежников на месте или немедленно судить военным судом и казнить. Никто ареста не боится и потому настоятельно нужно сокрушить мятеж так, чтобы больше никогда ничего подобного не повторилось. Особенно заслуживают кары телеграфисты и инженеры».
Однако ген. Сухотин все же оказался бессильным подавить революционное движение в Сибири и Забайкальи и ему в помощь были посланы карательные отряды генералов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского, о чем 12 января 1906 г. Николай Романов (последний царь) писал своей матери:
«Николаше (Николай Николаевич) пришла отличная мысль, которую он предложил: из России послан Меллер-Закомельский с войсками и жандармами и пулеметами в Сибирь до Иркутска, а из Харбина Ренненкампф ему навстречу. Обоим поручено восстановить порядок на станциях и в городах, хватать всех бунтовщиков и наказывать их, не стесняясь строгостью. Я думаю, что через две недели они съедутся и тогда в Сибири сразу все успокоится.
Там на железной дороге инженеры и их помощники - поляки и жиды; вся забастовка, а потом и революция, была устроена ими при помощи сбитых с толку рабочих»...
Отправляя Ренненкампфа на усмирение «поляков, жидов, телеграфистов и инженеров», Николай второй дал ему следующую «путевку»:
«Безотлагательно возложить на ген. Ренненкампфа восстановление среди всех служащих на Забайкальских и Сибирской ж. д. полного с их стороны подчинения требованиям законных властей.
Для достижения этого применить все меры.
Всякое вмешательство постороннего и законом не предусмотренного влияния на железнодорожных служащих должно быть устраняемо быстро и с беспощадной строгостью».
И когда Ренненкампф стал продвигаться из Манджурии к Чите и Иркутску, он на каждой ж.-д. станции сталкивался с препятствиями, вытекающими из активных революционных действий партизанских отрядов. Это обстоятельство вынудило его опубликовать приказ за № 2…
«…Не желающие подчиниться существующим законам и законным властям пусть удалятся со службы в течение 24 часов с момента получения настоящего приказа; на каждой станции в недельный срок они должны очистить занимаемые ими казенные помещения. Вторичный их прием на службу запрещен раз навсегда.
Предупреждаю, в случае вооруженного сопротивления и бунта против верховной власти, я прибегну к беспощадным мерам...
…никакие заявления незнания этого приказа приниматься не будут...»
Но «сбитые с толку рабочие» (слова Николая II) не испугались приказа Ренненкампфа и на своем общем собрании (рабочих и служащих ст. Чита-вокзал), состоявшемся 14 января 1906 г., приняли следующую резолюцию:
Принимая во внимание:
1) что ген. Ренненкампф в приказе № 2 заявляет о своем явном намерении подавить революционное движение;
2) что он не будет останавливаться для этого в выборе средств, не исключая ни репрессий, ни лжи (что он и делает в своем приказе);
3) что застращиванием он хочет, чтобы мы добровольно стали по-прежнему покорными рабами падающего самодержавия;
4) что никаких забастовок у нас нет, а, наоборот, благодаря деятельности смешанных комитетов перевозка войск усилилась до 6-8 воинских поездов;
5) что правительство и его агенты сами стараются всеми силами тормозить перевозку войск и продовольствия;
6) что анархия в России создается не революционным народом, а правительством и его агентами, вроде Ренненкампфа, мы, рабочие и служащие, заявляем:
а) что не отказываемся от своих прежних политических убеждений и не будем распускать наших политических организаций, которые Ренненкампф именует преступными,
б) что не будем давать никаких подписок, кроме подписки бороться с самодержавием до конца, и в 24 часа убираться не будем,
в) что против репрессивных мер, которые вздумает принять генерал волчьей сотни, будем бороться всеми силами, не стесняясь выбором средств, и вместе с тем требуем немедленного освобождения арестованных товарищей по линии и отмены военно-полевого суда.
Ренненкампф и Меллер-Закомельский, в ответ на героическое упорство восставших революционных масс, подражали Риману и Мину: «арестованных не имели и действовали беспощадно».
Характерны краткие приказы Меллера: «пятьдесят плетей и расстрелять...»
О своих похождениях по Сибири и Забайкалью генерал Меллер-Закомельский ежедневно телеграфно докладывал царю:
«…Сибирской и Забайкальской дороги все служащие, телеграфисты, рабочие почти сплошь революционеры... Необходимы строгие меры. На станции Мысовая расстрелял трех телеграфистов, двух членов комитетов, двух пропагандировавших среди эшелонов запасных...»
Ренненкампф тоже отчитывался перед царем:
«…Перед моим приездом прибывший сутками раньше ген. Сычевский был в мастерских и увещевал подчиниться моим требованиям. Появился раскол в партиях, затем началась паника от распространившихся слухов о моих действиях...
Газеты революционного направления во всей области приказал закрыть, типографии запечать, редакторов и издателей арестовать... Продвигаюсь не особенно быстро, так как произвожу основательную очистку ж.-д. линии...»
О похождениях Меллера-Закомельского по Сибири и Забайкалью председатель комитета министров граф Витте спешно докладывал царю:
«…Чита сдалась без боя. Но неужели все это дело тем и кончится. Позволяю себе всеподданнейше доложить, что, по моему мнению, необходимо немедленно судить военным судом всех виновных...»
Ознакомившись с докладом Витте, царь, в письме к своей матери (Марии Федоровне) дал Витте следующую оценку:
«Витте после московских (1905) событий резко изменился: теперь он хочет всех вешать и расстреливать.
Я никогда не видел такого хамелеона или человека, меняющего свои убеждения, как он. Благодаря этому свойству характера почти никто больше ему не верит, он окончательно потопил самого себя в глазах всех, может быть, исключая заграничных жидов»...
Николай Романов не только интересовался ходом «ликвидации мятежа», но и лично интересовался каждой казнью, совершенной экзекуторами Ренненкампфом и Меллер-Закомельским, о чем его по телеграфу информировал ген. Гродеков:
«…1) приговором временного военного суда в Чите, конфирмованным ген. Ренненкампфом, осуждены 5 ж.-д. служащих и рабочих на смертную казнь и 8 - в каторжные работы, сроком от 8 до 4 лет; 2) на линии Забайкальской дороги и во Владивостокском крепостном районе спокойно...»
«Спокойно» - пишет генерал и по его мнению, совершенные казни тоже способствовали «спокойствию». 20 февраля 1906 г. царь получил от ген. Гродекова очередную «радостную» телеграмму: «Приговорами временного военного суда на ст. Хилок, утвержденными ген. Ренненкампфом, 18 февраля 8 чел. казнены смертью, 11 чел. осуждены в каторжные работы на сроки от 4 лет до бессрочных, 2 - к тюремному заключению. Все осужденные из числа рабочих и служащих Забайкальской ж. д.».
«Слава» о действиях отряда Меллера-Закомельского и Ренненкампфа быстро распространилась по всей Сибири и многие почтово-телеграфные служащие, даже не примкнувшие к восстанию, побросали работу, что побудило начальника почтово-телеграфного округа послать Ренненкампфу следующую телеграмму: «Телеграфисты, запуганные произведенными расстрелами ген. Меллером, не являются на службу. Покорнейшая просьба, гарантировать их личную безопасность для несения службы...»
Революционное движение по Сибири и Забайкалью из города перебросилось на село, в результате чего крестьяне приступили к экспроприации помещичьих и царских земель и лесных участков. …31 января 1906 г. военный губернатор Забайкальской области предписал начальникам областей, чтобы они, в случае вынесения приговоров… «с подстрекателями, призывающими крестьян к уничтожению прав собственности на земли, поступали согласно телеграммы мин. вн. дел от 3 января 1906 г.», т. е. судили военным судом и казнили.
Как Ренненкампф «налаживал» порядок в «завоеванной» области, видно из следующих данных:
В Верхнеудинске им был расстрелян железнодорожник только за то, что у него было найдено охотничье ружье. Литераторы Окунцов, Шинкман и Мирский были приговорены Ренненкампфом к смертной казни за печатание революционных статей.
Директор верхнеудинского реального училища Окунцов в газете «Наша жизнь» писал:
«Меня, как фактического реактора «Верхнеудинского листка», Шинкмана и Мирского, как сотрудников, генерал Ренненкампф особенно возлюбил и вот уже четвертую неделю возит в вагоне в своем поезде. Для устрашения или в качества заложников он зорко следит за нами и показывает нам всякие ужасы. Он заставил нас пережить казнь пяти наших товарищей по заключению в Верхнеудинске, восьми на ст. Хилок и четырех в Чите. Намечены еще жертвы. Военный суд Ренненкампфа 25 февраля (1906 г.) вынес нам смертный приговор через повешение. И это несмотря на то, что из 36 свидетелей -30 показало в наше оправдание. Нас обвиняли в издании «Верхнеудинского листка», в каком-то вооруженном восстании (о нем никто в Верхнеудинске никогда не слыхал) с целью ниспровержения существующего государственного строя. В частности мне приписали стремление революционизировать учащихся через союз учащихся при помощи пения революционных песен и речей. Нашего защитника суд не допускал к защите. Я и мои товарищи ежеминутно ждем смерти…»
На станции Хилок (Забайкалье) Ренненкампф расстрелял 4 юношей и 15-тилетнего мальчика только за то, что они поколотили машиниста и тем «способствовали низвержению существующего государственного строя» (буквальное выражение из обвинительного акта). Там же пом. машиниста Марчинский был расстрелян только за то, что выразил желание охладить паровоз, что по обвинительному акту сильно способствовало ниспровержению государственного строя.
Генерал Ренненкампф в своей вешательской деятельности не уступал ни одному карателю из числа действовавших тогда по России и не мог он мириться с «мягкими» приговорами, где не фигурировало любимое Ренненкампфом слово: «вешать». Когда 16 марта 1906 г. Ренненкампф предал военному суду 45 солдат 3-го резервного ж. д. батальона по обвинению их в «беспорядках» в конце 1905 г. в Чите и за «расхищение оружия с целью снабжения им рабочих, участие и выступление на митингах, оскорбление действием командира роты, выборы депутатов в совет солдатских и казачьих депутатов, участие в вооруженной демонстрации, предъявление требований командиру батальона, распространение воззваний, агитация среди товарищей»... и суд приговорил 18 подсудимых к каторжным работам и тюремным заключениям, 28 подсудимых оправдал - генерал Ренненкампф заявил решительный протест против этого «мягкого» приговора, по поводу этого он писал ген. Гродекову:
«Столь мягкий приговор по сравнению с преступлениями, значившимися в обвинительном акте… не может служить к водворению порядка и восстановлению дисциплины, сильно пошатнувшейся в здешних войсках, и является крайне несправедливым по отношению гражданских лиц, приговоры о которых были вынесены значительно строже. По долгу службы откровенно докладываю вашему высокопревосходительству, что подобный суд с подобными приговорами, по моему глубокому убеждению, сослужит только отрицательную службу престолу и России. Это последнее совершенно несовместимо с моим отношением к обязанностям...»
Наряду с массовыми революционными действиями восставших по городам, селам и на ст. ж. д. Забайкальской обл., начались террористические акты против полицейских и карателей, что вынудило Ренненкампфа усилить репрессии, о чем и говорит его приказ № 7:
«…в случае покушения с политической целью на жизнь лиц меня сопровождающих, чинов жандармской полиии или служащих на железной дороге через час после покушения все арестованые находящиеся при эшелонах и сданные в тюрьму, как заложники, будут расстреляны…»
Но Ренненкампф не ограничивался репрессиями против прямых участников революционного движения, он не оставлял без своего «высокого» внимания и семей казненных, предложив начальнику Верхнеудинского уезда принять меры к тому, чтобы «семьи казненных политических преступников немедленно выехали за пределы Забайкальской области. В случае нежелания выселить административно».
Надежды Ренненкампфа карательными действиями «раз и навсегда ликвидировать крамолу» не оправдались и в то время, когда не было дня без расстрелов и экзекуций, когда достаточно было указать пальцем на любого рабочего и прибавить слово: «забастовщик», чтобы подвести этого рабочего под расстрел или долголетнюю каторгу.
Рабочие читинских ж. д. мастерских, в день открытия 1-й госуд. думы (27 апреля 1906 г.), когда начальник этих мастерских предложил им участвовать на молебне, устроили демонстрацию, о чем немедленно было доложено Ренненкампфу:
«Сегодня, 27 апреля (1906) небольшая часть мастеровых, придя на молебен о здравии государя императора и августейшего семейства перед молебном и после него пропела революционные песни. Однако мое приказание разойтись было исполнено беспрекословно...»
«Доблестный» генерал Ренненкампф за январь-февраль 1906 г. имел 450 заложников и 41 казненного. …«карательный» поезд ген. Ренненкампфа представлял из себя передвижную крепость: на первых вагонах видны были дула пушек и стоявшие со штыками солдаты, на последующих вагонах выставлены пулеметы, числом до 20, с стоящими позади наводчиками... На площадках вагонов стояли офицеры на карауле. В двух вагонах, охраняемых солидным конвоем, - заложники...
Сибирский палач Меллер-Закомельский в своем докладе Николаю Романову в январе 1906 г. писал:
«Агитаторы в своей дерзости дошли до того, что на станции Омск один из них стал раздавать прокламации нижним чинам вверенного мне отряда, за что был сильно избит ими.
Другой, около станции Иланской, вскочил на ходу в мой поезд, начал пропаганду среди нижних чинов, но был выброшен на ходу и вряд ли когда либо возобновит свою преступную деятельность.
Два таких агитатора, из которых один был в военной форме, выданные эшелонами запасных на станции Мысовой и вполне уличенные в их преступной деятельности по найденным у них прокламациям и по их собственному признанию, были расстреляны.
На станции стоял эшелон терско-кубанского полка, я распорядился взять полсотни этого эшелона и с частью своего отряда и ротой охраны станции Иланской послал оцепить депо, где была сходка. Когда нижние чины вошли в депо, по ним открыли огонь. Они ответили тем же и в один миг всех разогнали, причем, как оказалось впоследствии, из числа застигнутых в депо было 19 убито, 70 ранено и 70 человек арестовано.
Главные виновники, телеграфисты и члены стачечного комитета, взятые с оружием в руках, после точного выяснения их виновности и собственного их признания были мною расстреляны на станции Мысовой - 5 человек и на станции Могзон - 7 человек»...
Награжденный царем за «тяжелые труды» по Сибири и Забайкалью, Меллер-Закомельский получает назначение усмирять и подавлять революцию в Прибалтике.
Кровавый смерч по Сибири и Забайкалью за январь - февраль 1906 г. под предводительством Ренненкампфа и Меллера по далеко неполным данным насчитывает: за январь - арестованных - 875, казненных - 14, убитых - 81 ч., выпоротых - 220 чел., раненых - 135 чел.; за февраль - арестованных - 120 чел., осужденных- 31 чел., казненных - 2 чел.
О «покорении» Забайкалья Ренненкампфом и Меллер-Закомельским в феврале - марте 1906 г. «Сибирское Обозрение» отмечает:
«Оба генерала страстно желали «взять» Читу... Меллер-Закомельский первый взял Верхнеудинск, Хилок и Мысовск. Затем эти станции «брал*» Ренненкампф. При «покорении» Забайкалья у Ренненкампфа не было ни Мукдена, ни Цусимы, ни Порт-Артура, ни Ляояна, здесь были только блестящие победы, в результате которых ни одной потери у себя, потому что война велась с мирными жителями и даже не с революционерами. «Неприятель» потерял убитыми: в Мысовске - шесть, Верхнеудинске - пять, Чите - четыре, ст. Хилок - пятнадцать, станция Борзя - один, итого тридцать один казненный, кроме того, сослано на каторгу несколько сот, да арестовано было несколько сотен».