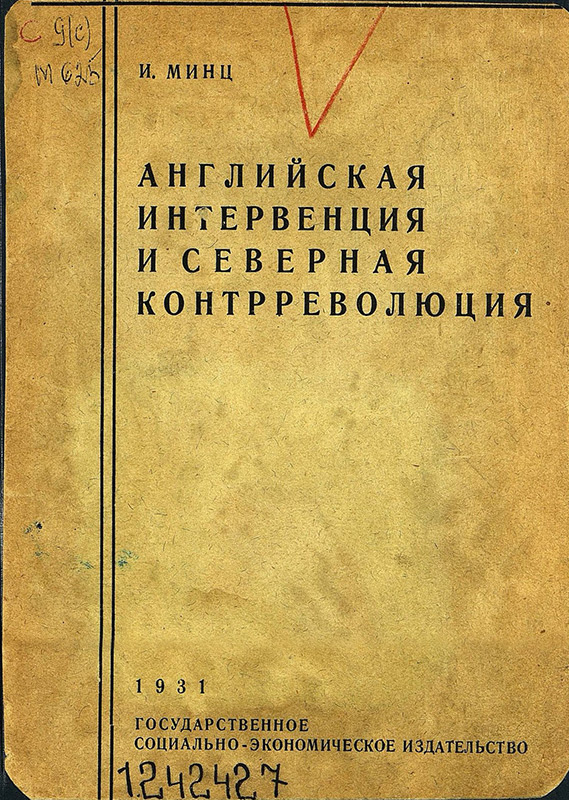Исаак Минц о Первой мировой войне и Февральской революции
Из книги Исаака Израилевича Минца «Английская интервенция и северная контрреволюция».
Три года Россия блестяще исполняла свою задачу - служить огромным тысячекилометровым компрессом для оттяжки германских дивизий от союзных войск. Ни один удар Германии по западному фронту не был доведен до конца; ей всякий раз приходилось… прекращать атаку на западе и обращаться против наседавших с востока русских армий...
[Читать далее]Потерять теперь 10 млн. штыков, а с ними и победу над Германией, - одна эта мысль приводила в отчаяние союзное командование. Недаром, когда дела в России становились хуже, ослабляя ее военную позицию, французскому послу Палеологу так часто приходила в голову параллель с его коллегой Шетарди, главным участником в елизаветинском перевороте XVIII века; в зимнюю кампанию 1916 и 1917 гг., когда смена русского министра иностранных дел Сазонова, одного из наиболее ярых сторонников союзников, показала, что линия России может пойти не по пути беспрекословного исполнения воли союзников, у Палеолога вырывается и другая историческая параллель:
«Что делать? - говорила княгиня Мария Павловна за интимным завтраком Палеологу. - Вот уже 15 дней мы все силы тратим на то, чтобы попытаться доказать ему (Николаю II.- И. М.), что он губит династию, губит Россию, что его царствование... скоро закончится катастрофой. Он ничего слушать не хочет. Это трагедия... Мы однако сделаем попытку коллективного обращения - выступления императорской фамилии...
- Ограничится ли дело платоническим обращением?..
Мы молча смотрим друг на друга. Она догадывается, что я имею в виду драму Павла I, потому что она отвечает с жестом ужаса:
- Боже мой! Что будет?..»
Посол не останавливался перед соучастием, даже перед инициативой в цареубийстве, когда казалось, что царь недостаточно решительно выполняет свои обязанности как союзник.
Тем не менее возможность выхода России из войны давно перестала быть тайной. Истощенная упорной и длительной кампанией, отсталая технически, она совершенно неспособна была тянуть войну, победа в которой достанется тому, по крылатому выражению Гинденбурга, у кого нервы окажутся крепче. Как раз русские нервы сдали раньше, чем определился решительный перевес на фронте. Уже во второй половине 1915 г. явственно почувствовалось, что Россия выдыхается, что господствующий класс не в силах довести до конца войну, что господствующий класс тратит несравненно больше внимания на те процессы, которые медленно зреют в низах русского народа, чем на интересы союзного дела.
Английские дипломаты очень скоро заметили тот политический заколдованный круг, в котором вертелось самодержавие. Чем неудачнее шла война, чем больше поражений терпела русская армия и дальше разваливалось хозяйство, тем быстрее зрело недовольство: в буржуазных кругах - из-за уплывающей победы над Германией, а в народных низах - под давлением нарастающего социально-экономического кризиса; чем выше поднималось недовольство у одних и революционное настроение у других, тем слабее вело войну самодержавие, все чаще и тревожнее оглядываясь на тыл.
Вывести самодержавие из заколдованного круга попытались сначала «дружескими» советами. Едва ли не бо́льшую часть воспоминаний лорда Бьюкенена составляют страницы, посвященные этой попытке. Хорошо натренированный дипломат буквально организовал облаву на русского царя, используя всякую возможность, чтобы указать на тяжелое положение страны и необходимость принять какие-нибудь меры против надвигающейся революции. Выведенный из себя настойчивой слежкой, Николай, до того запросто принимавший посла, вынужден был перейти к официальным аудиенциям и стал принимать лорда в полном парадном одеянии, тем самым намекая на необходимость держаться строго в рамках дипломатического этикета и избегать всего того, что напоминает вмешательство во внутренние дела.
Однако «дружеские» советы, характером своим напоминавшие «объятия по этапу» одной из героинь Успенского, просившей доставить ей сына на свидание хотя бы по этапу, мало двигали вперед разрешение задачи. Как из всякого заколдованного круга выход был один - прорыв в каком-нибудь месте. Как раз этот выход и был подсказан главой английского правительства.
5 августа 1915 г. Ллойд-Джордж произнес на уэльском литературном съезде речь…
«На Востоке небо еще темно и пасмурно, звезды застилаются тучами, - витиевато описывал премьер положение в России. - Я с беспокойством смотрю на этот предвещающий бурю горизонт, но не страшусь его. Сегодня я вижу проблески новой надежды, озаряющей небо. Неприятель в своем победоносном шествии не ведает, что творит. Пусть он остережется, потому что он снимает оковы с русского народа. Своей чудовищной артиллерией германцы разбивают вдребезги ржавые оковы, в которые закован русский народ. Он расправляет свои могучие члены и сбрасывает с себя душившие его развалины старого здания и готовится к борьбе, преисполненный новой силы... Австрия и Германия… куют меч, который сокрушит их самих, и освобождают великий народ: этот народ возьмет в свои руки меч и могучим взмахом нанесет самый сильный удар, который когда-либо наносил».
Уэльского апостола слышали не только уэльские литераторы, но и те, которые умеют найти политический смысл в этой притче о развалинах старого здания. У нас до сих пор нет архивных данных об участии англичан в революции… но уже одно то богатство аргументов, которые Бьюкенен приводит в доказательство непричастности его к февральскому перевороту, заставляет думать противное. Кто слишком много доказывает, тот ничего не доказывает: английскому послу так и не удалось скрыть, что его посещали очень часто и аккуратно все будущие деятели Февраля, что он поддерживал самые тесные связи с будущими членами Временного правительства. Имя П. Н. Милюкова становится одним из наиболее популярных в Англии. Его речи в Думе против правительства, запрещенные в России, читаются в Англии, то и дело цитируются в парламенте; о нем почти еженедельно и устно и письменно осведомляются депутаты английского парламента.
Впрочем и сам посол не скрыл, что призыв Ллойд-Джорджа был им принят к исполнению, и Бьюкенен остался не простым наблюдателем разворачивающихся событий.
«...Один мой русский друг, - рассказывает Бьюкенен, - который был впоследствии членом Временного правительства, известил меня... что перед Пасхой должна произойти революция, но что мне нечего беспокоиться, так как она продлится не больше 2 недель. Я имею основание думать, что это сообщение имело фактические основания и что тогда готовился военный переворот не с целью низложить императора, а с целью вынудить его даровать конституцию. Однако его деятелей, к несчастью, опередило народное восстание, вылившееся в мартовскую революцию. Я говорю: «к несчастью», потому что как для России, так и для династии было бы лучше, если бы долго ожидавшаяся революция пришла не снизу, а сверху».
«Будущий член Временного правительства» не ставил бы в известность о предстоящем дворцовом перевороте человека, который так или иначе не заинтересован в нем. Что Бьюкенен под подготовляемой «революцией сверху» не почувствовал назревшей революции масс, в этом не его однако ошибка: не избежали этой же ошибки люди, не только чувствовавшие опасность замены, но и самым тщательным образом подготовлявшие переворот, чтобы опередить массы.
Так или иначе и для ожидавшейся и для случившейся революции ставилась одна задача: устранить с пути политические препятствия, мешающие развернуть борьбу с Германией. Лейтмотивом всех выступлений в английском парламенте 15 марта 1917 г., когда состоялось специальное заседание, посвященное русской революции, была уверенность, что участники революции укрепят союз с Антантой, что новая страна в Европе получила демократический образ правления, а это облегчит борьбу с милитаристской Германией.
«Вся наша информация, - говорил на заседании Бонар-Лоу, - заставляет нас верить, что движение ни в коем случае не направлено в сторону достижения мира; напротив, недовольство - это суть всех сведений - направлено против правительства не из-за продолжения войны, а против того, что война велась не с той энергией и напряжением, которых ждет народ».
Ллойд-Джордж… был несколько осторожнее. Подтвердив, что… правительство получило поддержку всей страны и армии, Ллойд-Джордж однако подчеркнул, что опасность еще не миновала, - можно лишь с уверенностью констатировать, что «новое правительство было образовано для продолжения войны с увеличенной силой».
Нужно почеркнуть, что тут уже разграничиваются страна и правительство, и только о последнем сказано с уверенностью, что оно будет продолжать войну...
Ген. Нокс на второй же день после революции бросился в полки, чтобы узнать настроение армии. Увы! оно оказалось очень определенным - и как раз против войны. Нокс доносит правительству о полках, приступивших к выбору командного состава, об офицерах, сразу изолированных и оказавшихся фактически без власти. Уже 18 марта он телеграфирует в Лондон, предлагая прекратить доставку военных материалов в Россию, пока в Петрограде не будет восстановлен порядок.
Февральская революция, которая, по признанию Нокса, должна была в интересах России и союзников представлять «спокойный переход к конституционному правительству», пошла дальше всех намеченных ей пределов: из средства, укрепляющего военную позицию России, она превратилась в начало фактического прекращения войны. Недаром уже 17 (4) апреля 1917 г. САСШ нарушили свой ставший традицией нейтралитет и объявили войну Германии: неминуемый выход России из войны нарушал равновесие воюющих стран, на котором собственно и держался «нейтралитет» Америки...
«Я боюсь, правительство мало сделает, чтобы увеличить давление на западном театре... Нашей задачей должно быть удержать всеми мерами хоть часть русских войск, чтобы не дать Германии перебросить все свои войска на запад», - по-военному прямо определил «союзническую» тактику ген. Нокс.
Вся дипломатическая деятельность союзных правительств подчиняется выполнению этой цели: тут и скорое, без проволочек, признание нового правительства, и обещание помощи техническими средствами, присылка крупных специалистов для борьбы с разрухой и, наконец, представление новых займов, по крайней мере со стороны Америки.
Исполнители, несмотря на долгую подготовку, к роли оказались малопригодными. Проницательные англичане быстро разгадали, что Временное правительство бессильно. Когда английскому военному атташе понадобилось выяснить отношение правительства к войне, он обратился не к Временному правительству, а к Совету.
«Единственный человек, который может спасти страну, - это Керенский, ибо этот маленький полуеврей… пользуется доверием петроградской толпы, имеющей оружие, а потому и являющейся хозяином положения. Остальные члены правительства могут представлять народ России вне петроградской толпы, но русский народ - без оружия и потому не в счет» - записал в своем дневнике ген. Нокс еще 19 (6) марта 1917 г. и сделал отсюда соответствующие политические выводы: в состав Временного правительства нужно ввести несколько представителей Совета.
За 6 недель до коалиции в английском посольстве уже созрел план введения в правительство мелкобуржуазных лидеров: у последних в руках несравненно больше реальных возможностей для продолжения войны, чтобы не считаться с векселями, выданными Гучкову и Милюкову накануне переворота, тем более, что на первых и влиять легче, да и требовательны они в меньшей степени. Оправдывая свой поворот от Милюкова к Керенскому, Быокенен привел следующий довод:
«Милюков, будучи преданным другом союзников, настаивал на строгом соблюдении договоров и соглашений, заключенных с ними императорским правительством. Он считал приобретение Константинополя вопросом жизненной важности для России. Керенский... защищал продолжение войны до конца, отвергая всякую мысль о завоеваниях, и когда Милюков говорил о приобретении Константинополя, как об одной из целей России в войне, он энергично отрекался от солидарности с ним».
Керенский обеспечивал применение всех мер для сохранения России в войне и в то же время отказывался от главного приза войны - Константинополя, признанного, скрепя сердце, за Россией и «союзниками», - таков реальный результат, из-за которого стоило отказаться от поддержки старых исполнителей:
«Новое коалиционное правительство... представляет для нас последнюю и почти единственную надежду на спасение военного положения на этом фронте», - доложил посол министру иностранных дел Англии о своих шагах.
Новому правительству оказали не только доверие, но и пришли на помощь рядом весьма конкретных предложений, далеко выходивших за пределы советов.
Какие средства были при этом пущены в ход, можно судить по одному предприятию. Наряду с предоставлением Временному правительству новых займов, огромных материальных средств, технической помощи крупнейшими специалистами, «союзники» решили взять в свои руки и пропаганду, из рук вон плохо поставленную правительством. Задуманное однако оказалось не таким легким в исполнении: «Союзники в глазах крестьянской России были не лучше царского самодержавия, - сознался один из инициаторов плана, член американской миссии Красного креста, полковник Робинс, - предприятие должно было быть русским, и притом революционным».
Любопытно здесь отметить для тех, кто потом в эпоху интервенции твердил о «приглашении» «союзников» русским народом, что задолго до интервенции «союзники», по их собственному признанию, в глазах широких масс были уже не лучше царского самодержавия!
Выход между тем нашли довольно быстро. В тогдашнем Петрограде был организован «Комитет гражданского воспитания свободной России», во главе которого поставили «бабушку русской революции» Брешковскую, а в качестве членов ввели Н. Чайковского, Лазарева, личного секретаря Керенского Д. Соскиса и др. Комитет, по «союзническому» плану, предполагал купить несколько газет, а также издавать мелкие агитационные брошюры, листовки и т. п., имеющие целью поднять массы на войну против немцев под лозунгом: «Отнюдь не в целях поддержки союзников, а ради спасения революции». Центром работы должна была стать устная пропаганда, для чего набрали до 800 пропагандистов, полученных главным образом от генерального штаба. Деньги, в сумме 12 млн. руб., получили от... Петроградского отделения американского банка, да кроме того от американского правительства затребовали 1 млн. долл. единовременно да по 3 млн. сверх того в продолжение первых трех месяцев.
Как ни грандиозен был размах всех этих мер, неумолимый ход действительности брал свое: армия все более уходила из рук правительства, явно не желая воевать. Оставить ее на фронте можно было совсем другими средствами.
…в разгар июльского кризиса, когда Временное правительство лихорадочно искало какой бы то ни было поддержки, английское посольство предъявило требование, буквально имевшее характер ультиматума.
«Если правительство возьмет верх в настоящем кризисе и хочет действительно продолжать войну в согласии с союзниками, то оно должно предпринять такие меры».
Дальше генерал Нокс набросал следующую программу «успокоения» революции, которая и была передана через английского посла министру иностранных дел Терещенко:
«1. Восстановление смертной казни по всей России для всех, подведомственных военным и морским законам.
2. Потребовать от солдат, принимавших участие в незаконной демонстрации, выдачи агитаторов для наказания.
3. Разоружение всех рабочих в Петрограде.
4. Организация военной цензуры с правом конфисковать газеты, возбуждающие войска или население к нарушению порядка или военной дисциплины.
5. Организация в Петрограде и других больших городах «милиции», под командой раненых офицеров, из солдат, раненных на фронте, выбирая предпочтительно людей в возрасте 40 лет и больше.
6. Разоружение и превращение в рабочие батальоны всех полков в Петрограде и уезде, если они не признают всех вышеуказанных условий».
Терещенко заявил, что он принимает всю программу за исключением первого пункта. Дальнейшая работа правительства показала, что его заявление отнюдь не было пустой декламацией: разгром революционных организаций быстро продвинулся вперед. Но и этого уже оказалось недостаточно. И тут «союзники» выступают с новым, еще более решительным планом. 30 (17) июля ген. Нокс обратился с письмом к английскому послу на тему: «Военное состояние России».
«Правительство наконец приняло некоторые меры... Мы прямо заинтересованы в восстановлении порядка в России и дисциплины в русской армии, вот почему наша обязанность заявить, что принятые меры совсем недостаточны... Правительство имеет сейчас неограниченную власть, если бы оно только воспользовалось ею. Две предпринятые меры - восстановление смертной казни и закрытие «Правды» (!) - пришли слишком поздно, чтобы положить конец всему этому без дополнительных мер».
Дело уже идет не только о разгроме большевиков - закрытие «Правды», как видим, в числе одной из основных мер, - нужна новая система мер, сводящих всю революцию на нет. Вот эти меры:
1. Должна быть полностью восстановлена дисциплина в армии, как первый шаг к созданию порядка в стране.
2. Престиж офицеров должен быть восстановлен всеми возможными мерами.
3. Вернуть начальникам власть. Должно быть восстановлено отдание чести во всякое время и во всяком месте.
4. Упразднить все комитеты в армии за исключением ротных, которые будут иметь дело лишь с вопросами солдатского желудка.
5. Восстановление порядка в тылу...
29 (16) июля в ставке под председательством А. Ф. Керенского, в присутствии Терещенко, состоялась конференция всех командующих отдельными фронтами. На совещании ген. Деникин произнес речь с перечислением тех мер, которые нужно было немедленно ввести для спасения армии. Все присутствующие генералы, начинало Брусилова, Алексеева, Рузского, Лукомского и др., кончая комиссаром юго-западного фронта Савинковым, полностью присоединились к проекту Деникина, и его, таким образом, можно рассматривать как программу контрреволюции...
Вот основные пункты программы:
1. Сознание своей ошибки и вины Временным правительством перед офицерством.
2. Петрограду прекратить всякое военное законодательство. Полная мощь верховному главнокомандующему.
3. Изъять политику из армии.
4. Отменить «декларацию». Упразднить комиссаров и комитеты, постепенно изменяя функции последних.
5. Вернуть власть начальникам. Восстановить дисциплину и внешние формы порядка я приличия.
6. Ввести военно-революционные суды и смертную казнь для тыла войск и гражданских лиц, совершающих одинаковые преступления.
7. Создать в резерве отборные части трех родов оружия как опору против военного бунта и ужасов предстоящей демобилизации.
Если из этой программы отбросить один-два пункта, то все остальное буквально совпадает с проектом английского ген. Нокса...
Программа русской контрреволюции была и программой «союзников». Последние если и не были инициаторами, то безусловно были наиболее активными пособниками корниловщины - таков вывод из сравнения и сопоставления обеих программ.
Но тут собственно и догадки не нужны. У нас имеется прямое свидетельство одного из союзников.
6 марта 1919 г. член американского Красного креста полковник Робинс давал показания Овермэновской комиссии Американского сената. Создана была эта комиссия в разгар интервенции, чтобы показать американскому общественному мнению большевизм в самом отвратительном виде. С этой целью в комиссию были вызваны для дачи показаний все, кто мог рассказать о грабежах, национализации женщин (самая популярная тема в отчете… на 1840 страницах), насилиях со стороны большевиков и т. п...
Этой-то комиссии Робинс говорил:
«Союзные представители участвовали в этой авантюре (корниловской - И. М.) из искренних и патриотических побуждений. Будучи тесно связаны со старым режимом, они не входили ни в какие устные соглашения с новым строем и внимательно прислушивались ко всему тому, что говорили 7% населения (верхушка - И. М.), сознавшие, что в случае укрепления революции им придется навсегда распроститься со своими старыми привилегиями»...
«Он продолжал, - передает свой разговор с ген. Ноксом полковник Робинс: - «Вам бы следовало быть с Корниловым». Я ответил: «Но вы, генерал, были с Корниловым». И он покраснел, вспомнив, что мне известно, что английские офицеры, одетые в русскую военную форму, в английских танках следовали за, наступавшим Корниловым и едва не открыли огонь по корниловским частям, когда те отказались наступать дальше Пскова...»
Сам английский посол опять-таки не сумел скрыть своей руководящей роли в авантюре. Еще 5 сентября (23 августа) к нему явился «русский друг, состоявший директором одного из крупнейших петроградских банков», рассказал о готовящемся 8 сентября (26 августа) перевороте и попросил подмоги британских броневиков и помощи в случае неудачи предприятия. Посол, по его словам, ответил, что его долг сообщить правительству о заговоре, однако он не хочет обмануть доверие «друзей», но ни помощи, ни поддержки оказывать не собирается, а советует им отказаться от предприятия. Дальше однако посол сам опрокидывает всю маскировку:
«Если бы генерал Корнилов был благоразумен, - сказал он своему собеседнику, - то он подождал бы, пока большевики не сделают первый; шаг, а тогда он пришел бы и раздавил их».
…первым шагом всего предприятия должно было быть выступление казаков атамана Дутова в Петрограде под видом большевиков…
9 октября (26 сентября) три посла - английский, французский и итальянский - посетили Керенского и от имени правительств потребовали принять все меры к восстановлению боеспособности армии.
Как ни привыкло правительство Керенского к понуканиям со стороны союзников, но последний акт, явно напоминавший полуколониальные отношения, вывел его из состояния колебания. Понимая, какую бурю возмущения вызовет опубликование происшедшего, Керенский потребовал сохранения инцидента в тайне...
Соннино, итальянский министр иностранных дел, ответил, что «заявление трех послов вызвано исключительно желанием помочь Временному правительству дать ему в руки оружие или точку опоры на случай, если бы оно признало полезным воспользоваться им по отношению к внутренним элементам, причиняющим ему затруднения».
Короче, весь сыр-бор загорелся, чтобы побудить правительство выступить против большевиков.
Французский министр позже подчеркнул, что выступление трех послов имело в виду побудить русское правительство к более энергичной внутренней политике. По мнению французов, русское правительство «могло бы путем энергичных мер, опираясь на верные войска, утвердить свою власть, восстановить боеспособность армии и подавить максималистские проявления»...
3 ноября (21 октября) 1917 г. в помещении американского Красного креста состоялось совещание...
Ген. Нокс в присутствии русских принялся бичевать Россию, Керенского за его некомпетентность, за боязнь перестрелять большевиков; русских генералов - за поражение на фронте, а русских солдат назвал «трусливыми, завистливыми собаками». Когда возмущенные русские члены совещания вышли из комнаты, между Ноксом и Робинсом произошел следующий диалог:
«Нокс. В настоящее время единственно, что остается в России - это Савинков, Каледин и военная диктатура. Этот народ должен иметь над собой кнут.
Робинс. Генерал, вы, может быть, получите диктатуру совершенно другого характера.
Нокс. Вы подразумеваете этих прохвостов - Ленина, Троцкого и большевиков?
Робинс. Да, я их именно имею в виду.
Нокс. Полковник Робинс, вы не военный человек; вы ничего не смыслите в военных делах. Военные люди знают, как поступать с этими типами. Мы их просто ставим к стенке и расстреливаем»...
Оного факта выхода России из империалистской цепи, приковывавшей весь мир к войне… было достаточно, чтобы заставить «союзников» обратиться к последнему средству, остававшемуся в их распоряжении - вооруженному вмешательству.
«Здесь нет места людям, предубежденным против этой экспедиции, - объяснял парламенту мотивы интервенции Черчилль. - …Жизненно было необходимо принять все меры против России, чтобы заставить ее сдерживать на русском фронте максимальное количество русских войск».
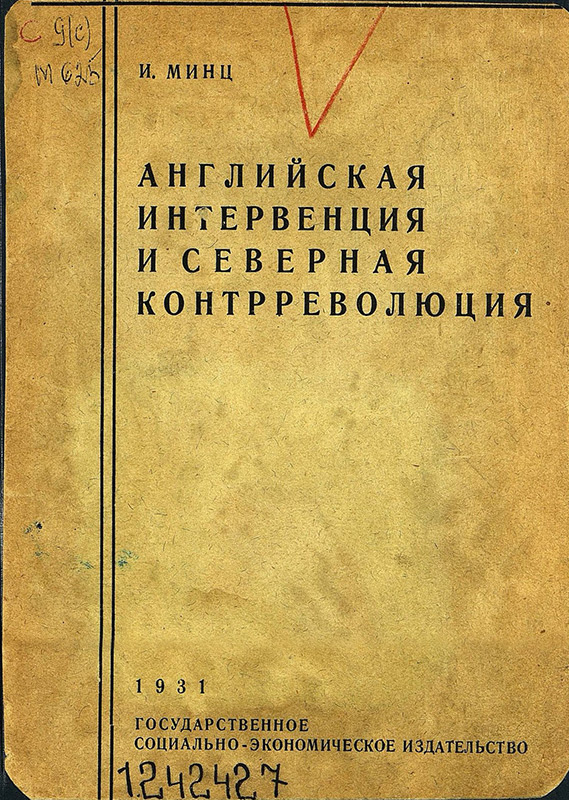
Три года Россия блестяще исполняла свою задачу - служить огромным тысячекилометровым компрессом для оттяжки германских дивизий от союзных войск. Ни один удар Германии по западному фронту не был доведен до конца; ей всякий раз приходилось… прекращать атаку на западе и обращаться против наседавших с востока русских армий...
[Читать далее]Потерять теперь 10 млн. штыков, а с ними и победу над Германией, - одна эта мысль приводила в отчаяние союзное командование. Недаром, когда дела в России становились хуже, ослабляя ее военную позицию, французскому послу Палеологу так часто приходила в голову параллель с его коллегой Шетарди, главным участником в елизаветинском перевороте XVIII века; в зимнюю кампанию 1916 и 1917 гг., когда смена русского министра иностранных дел Сазонова, одного из наиболее ярых сторонников союзников, показала, что линия России может пойти не по пути беспрекословного исполнения воли союзников, у Палеолога вырывается и другая историческая параллель:
«Что делать? - говорила княгиня Мария Павловна за интимным завтраком Палеологу. - Вот уже 15 дней мы все силы тратим на то, чтобы попытаться доказать ему (Николаю II.- И. М.), что он губит династию, губит Россию, что его царствование... скоро закончится катастрофой. Он ничего слушать не хочет. Это трагедия... Мы однако сделаем попытку коллективного обращения - выступления императорской фамилии...
- Ограничится ли дело платоническим обращением?..
Мы молча смотрим друг на друга. Она догадывается, что я имею в виду драму Павла I, потому что она отвечает с жестом ужаса:
- Боже мой! Что будет?..»
Посол не останавливался перед соучастием, даже перед инициативой в цареубийстве, когда казалось, что царь недостаточно решительно выполняет свои обязанности как союзник.
Тем не менее возможность выхода России из войны давно перестала быть тайной. Истощенная упорной и длительной кампанией, отсталая технически, она совершенно неспособна была тянуть войну, победа в которой достанется тому, по крылатому выражению Гинденбурга, у кого нервы окажутся крепче. Как раз русские нервы сдали раньше, чем определился решительный перевес на фронте. Уже во второй половине 1915 г. явственно почувствовалось, что Россия выдыхается, что господствующий класс не в силах довести до конца войну, что господствующий класс тратит несравненно больше внимания на те процессы, которые медленно зреют в низах русского народа, чем на интересы союзного дела.
Английские дипломаты очень скоро заметили тот политический заколдованный круг, в котором вертелось самодержавие. Чем неудачнее шла война, чем больше поражений терпела русская армия и дальше разваливалось хозяйство, тем быстрее зрело недовольство: в буржуазных кругах - из-за уплывающей победы над Германией, а в народных низах - под давлением нарастающего социально-экономического кризиса; чем выше поднималось недовольство у одних и революционное настроение у других, тем слабее вело войну самодержавие, все чаще и тревожнее оглядываясь на тыл.
Вывести самодержавие из заколдованного круга попытались сначала «дружескими» советами. Едва ли не бо́льшую часть воспоминаний лорда Бьюкенена составляют страницы, посвященные этой попытке. Хорошо натренированный дипломат буквально организовал облаву на русского царя, используя всякую возможность, чтобы указать на тяжелое положение страны и необходимость принять какие-нибудь меры против надвигающейся революции. Выведенный из себя настойчивой слежкой, Николай, до того запросто принимавший посла, вынужден был перейти к официальным аудиенциям и стал принимать лорда в полном парадном одеянии, тем самым намекая на необходимость держаться строго в рамках дипломатического этикета и избегать всего того, что напоминает вмешательство во внутренние дела.
Однако «дружеские» советы, характером своим напоминавшие «объятия по этапу» одной из героинь Успенского, просившей доставить ей сына на свидание хотя бы по этапу, мало двигали вперед разрешение задачи. Как из всякого заколдованного круга выход был один - прорыв в каком-нибудь месте. Как раз этот выход и был подсказан главой английского правительства.
5 августа 1915 г. Ллойд-Джордж произнес на уэльском литературном съезде речь…
«На Востоке небо еще темно и пасмурно, звезды застилаются тучами, - витиевато описывал премьер положение в России. - Я с беспокойством смотрю на этот предвещающий бурю горизонт, но не страшусь его. Сегодня я вижу проблески новой надежды, озаряющей небо. Неприятель в своем победоносном шествии не ведает, что творит. Пусть он остережется, потому что он снимает оковы с русского народа. Своей чудовищной артиллерией германцы разбивают вдребезги ржавые оковы, в которые закован русский народ. Он расправляет свои могучие члены и сбрасывает с себя душившие его развалины старого здания и готовится к борьбе, преисполненный новой силы... Австрия и Германия… куют меч, который сокрушит их самих, и освобождают великий народ: этот народ возьмет в свои руки меч и могучим взмахом нанесет самый сильный удар, который когда-либо наносил».
Уэльского апостола слышали не только уэльские литераторы, но и те, которые умеют найти политический смысл в этой притче о развалинах старого здания. У нас до сих пор нет архивных данных об участии англичан в революции… но уже одно то богатство аргументов, которые Бьюкенен приводит в доказательство непричастности его к февральскому перевороту, заставляет думать противное. Кто слишком много доказывает, тот ничего не доказывает: английскому послу так и не удалось скрыть, что его посещали очень часто и аккуратно все будущие деятели Февраля, что он поддерживал самые тесные связи с будущими членами Временного правительства. Имя П. Н. Милюкова становится одним из наиболее популярных в Англии. Его речи в Думе против правительства, запрещенные в России, читаются в Англии, то и дело цитируются в парламенте; о нем почти еженедельно и устно и письменно осведомляются депутаты английского парламента.
Впрочем и сам посол не скрыл, что призыв Ллойд-Джорджа был им принят к исполнению, и Бьюкенен остался не простым наблюдателем разворачивающихся событий.
«...Один мой русский друг, - рассказывает Бьюкенен, - который был впоследствии членом Временного правительства, известил меня... что перед Пасхой должна произойти революция, но что мне нечего беспокоиться, так как она продлится не больше 2 недель. Я имею основание думать, что это сообщение имело фактические основания и что тогда готовился военный переворот не с целью низложить императора, а с целью вынудить его даровать конституцию. Однако его деятелей, к несчастью, опередило народное восстание, вылившееся в мартовскую революцию. Я говорю: «к несчастью», потому что как для России, так и для династии было бы лучше, если бы долго ожидавшаяся революция пришла не снизу, а сверху».
«Будущий член Временного правительства» не ставил бы в известность о предстоящем дворцовом перевороте человека, который так или иначе не заинтересован в нем. Что Бьюкенен под подготовляемой «революцией сверху» не почувствовал назревшей революции масс, в этом не его однако ошибка: не избежали этой же ошибки люди, не только чувствовавшие опасность замены, но и самым тщательным образом подготовлявшие переворот, чтобы опередить массы.
Так или иначе и для ожидавшейся и для случившейся революции ставилась одна задача: устранить с пути политические препятствия, мешающие развернуть борьбу с Германией. Лейтмотивом всех выступлений в английском парламенте 15 марта 1917 г., когда состоялось специальное заседание, посвященное русской революции, была уверенность, что участники революции укрепят союз с Антантой, что новая страна в Европе получила демократический образ правления, а это облегчит борьбу с милитаристской Германией.
«Вся наша информация, - говорил на заседании Бонар-Лоу, - заставляет нас верить, что движение ни в коем случае не направлено в сторону достижения мира; напротив, недовольство - это суть всех сведений - направлено против правительства не из-за продолжения войны, а против того, что война велась не с той энергией и напряжением, которых ждет народ».
Ллойд-Джордж… был несколько осторожнее. Подтвердив, что… правительство получило поддержку всей страны и армии, Ллойд-Джордж однако подчеркнул, что опасность еще не миновала, - можно лишь с уверенностью констатировать, что «новое правительство было образовано для продолжения войны с увеличенной силой».
Нужно почеркнуть, что тут уже разграничиваются страна и правительство, и только о последнем сказано с уверенностью, что оно будет продолжать войну...
Ген. Нокс на второй же день после революции бросился в полки, чтобы узнать настроение армии. Увы! оно оказалось очень определенным - и как раз против войны. Нокс доносит правительству о полках, приступивших к выбору командного состава, об офицерах, сразу изолированных и оказавшихся фактически без власти. Уже 18 марта он телеграфирует в Лондон, предлагая прекратить доставку военных материалов в Россию, пока в Петрограде не будет восстановлен порядок.
Февральская революция, которая, по признанию Нокса, должна была в интересах России и союзников представлять «спокойный переход к конституционному правительству», пошла дальше всех намеченных ей пределов: из средства, укрепляющего военную позицию России, она превратилась в начало фактического прекращения войны. Недаром уже 17 (4) апреля 1917 г. САСШ нарушили свой ставший традицией нейтралитет и объявили войну Германии: неминуемый выход России из войны нарушал равновесие воюющих стран, на котором собственно и держался «нейтралитет» Америки...
«Я боюсь, правительство мало сделает, чтобы увеличить давление на западном театре... Нашей задачей должно быть удержать всеми мерами хоть часть русских войск, чтобы не дать Германии перебросить все свои войска на запад», - по-военному прямо определил «союзническую» тактику ген. Нокс.
Вся дипломатическая деятельность союзных правительств подчиняется выполнению этой цели: тут и скорое, без проволочек, признание нового правительства, и обещание помощи техническими средствами, присылка крупных специалистов для борьбы с разрухой и, наконец, представление новых займов, по крайней мере со стороны Америки.
Исполнители, несмотря на долгую подготовку, к роли оказались малопригодными. Проницательные англичане быстро разгадали, что Временное правительство бессильно. Когда английскому военному атташе понадобилось выяснить отношение правительства к войне, он обратился не к Временному правительству, а к Совету.
«Единственный человек, который может спасти страну, - это Керенский, ибо этот маленький полуеврей… пользуется доверием петроградской толпы, имеющей оружие, а потому и являющейся хозяином положения. Остальные члены правительства могут представлять народ России вне петроградской толпы, но русский народ - без оружия и потому не в счет» - записал в своем дневнике ген. Нокс еще 19 (6) марта 1917 г. и сделал отсюда соответствующие политические выводы: в состав Временного правительства нужно ввести несколько представителей Совета.
За 6 недель до коалиции в английском посольстве уже созрел план введения в правительство мелкобуржуазных лидеров: у последних в руках несравненно больше реальных возможностей для продолжения войны, чтобы не считаться с векселями, выданными Гучкову и Милюкову накануне переворота, тем более, что на первых и влиять легче, да и требовательны они в меньшей степени. Оправдывая свой поворот от Милюкова к Керенскому, Быокенен привел следующий довод:
«Милюков, будучи преданным другом союзников, настаивал на строгом соблюдении договоров и соглашений, заключенных с ними императорским правительством. Он считал приобретение Константинополя вопросом жизненной важности для России. Керенский... защищал продолжение войны до конца, отвергая всякую мысль о завоеваниях, и когда Милюков говорил о приобретении Константинополя, как об одной из целей России в войне, он энергично отрекался от солидарности с ним».
Керенский обеспечивал применение всех мер для сохранения России в войне и в то же время отказывался от главного приза войны - Константинополя, признанного, скрепя сердце, за Россией и «союзниками», - таков реальный результат, из-за которого стоило отказаться от поддержки старых исполнителей:
«Новое коалиционное правительство... представляет для нас последнюю и почти единственную надежду на спасение военного положения на этом фронте», - доложил посол министру иностранных дел Англии о своих шагах.
Новому правительству оказали не только доверие, но и пришли на помощь рядом весьма конкретных предложений, далеко выходивших за пределы советов.
Какие средства были при этом пущены в ход, можно судить по одному предприятию. Наряду с предоставлением Временному правительству новых займов, огромных материальных средств, технической помощи крупнейшими специалистами, «союзники» решили взять в свои руки и пропаганду, из рук вон плохо поставленную правительством. Задуманное однако оказалось не таким легким в исполнении: «Союзники в глазах крестьянской России были не лучше царского самодержавия, - сознался один из инициаторов плана, член американской миссии Красного креста, полковник Робинс, - предприятие должно было быть русским, и притом революционным».
Любопытно здесь отметить для тех, кто потом в эпоху интервенции твердил о «приглашении» «союзников» русским народом, что задолго до интервенции «союзники», по их собственному признанию, в глазах широких масс были уже не лучше царского самодержавия!
Выход между тем нашли довольно быстро. В тогдашнем Петрограде был организован «Комитет гражданского воспитания свободной России», во главе которого поставили «бабушку русской революции» Брешковскую, а в качестве членов ввели Н. Чайковского, Лазарева, личного секретаря Керенского Д. Соскиса и др. Комитет, по «союзническому» плану, предполагал купить несколько газет, а также издавать мелкие агитационные брошюры, листовки и т. п., имеющие целью поднять массы на войну против немцев под лозунгом: «Отнюдь не в целях поддержки союзников, а ради спасения революции». Центром работы должна была стать устная пропаганда, для чего набрали до 800 пропагандистов, полученных главным образом от генерального штаба. Деньги, в сумме 12 млн. руб., получили от... Петроградского отделения американского банка, да кроме того от американского правительства затребовали 1 млн. долл. единовременно да по 3 млн. сверх того в продолжение первых трех месяцев.
Как ни грандиозен был размах всех этих мер, неумолимый ход действительности брал свое: армия все более уходила из рук правительства, явно не желая воевать. Оставить ее на фронте можно было совсем другими средствами.
…в разгар июльского кризиса, когда Временное правительство лихорадочно искало какой бы то ни было поддержки, английское посольство предъявило требование, буквально имевшее характер ультиматума.
«Если правительство возьмет верх в настоящем кризисе и хочет действительно продолжать войну в согласии с союзниками, то оно должно предпринять такие меры».
Дальше генерал Нокс набросал следующую программу «успокоения» революции, которая и была передана через английского посла министру иностранных дел Терещенко:
«1. Восстановление смертной казни по всей России для всех, подведомственных военным и морским законам.
2. Потребовать от солдат, принимавших участие в незаконной демонстрации, выдачи агитаторов для наказания.
3. Разоружение всех рабочих в Петрограде.
4. Организация военной цензуры с правом конфисковать газеты, возбуждающие войска или население к нарушению порядка или военной дисциплины.
5. Организация в Петрограде и других больших городах «милиции», под командой раненых офицеров, из солдат, раненных на фронте, выбирая предпочтительно людей в возрасте 40 лет и больше.
6. Разоружение и превращение в рабочие батальоны всех полков в Петрограде и уезде, если они не признают всех вышеуказанных условий».
Терещенко заявил, что он принимает всю программу за исключением первого пункта. Дальнейшая работа правительства показала, что его заявление отнюдь не было пустой декламацией: разгром революционных организаций быстро продвинулся вперед. Но и этого уже оказалось недостаточно. И тут «союзники» выступают с новым, еще более решительным планом. 30 (17) июля ген. Нокс обратился с письмом к английскому послу на тему: «Военное состояние России».
«Правительство наконец приняло некоторые меры... Мы прямо заинтересованы в восстановлении порядка в России и дисциплины в русской армии, вот почему наша обязанность заявить, что принятые меры совсем недостаточны... Правительство имеет сейчас неограниченную власть, если бы оно только воспользовалось ею. Две предпринятые меры - восстановление смертной казни и закрытие «Правды» (!) - пришли слишком поздно, чтобы положить конец всему этому без дополнительных мер».
Дело уже идет не только о разгроме большевиков - закрытие «Правды», как видим, в числе одной из основных мер, - нужна новая система мер, сводящих всю революцию на нет. Вот эти меры:
1. Должна быть полностью восстановлена дисциплина в армии, как первый шаг к созданию порядка в стране.
2. Престиж офицеров должен быть восстановлен всеми возможными мерами.
3. Вернуть начальникам власть. Должно быть восстановлено отдание чести во всякое время и во всяком месте.
4. Упразднить все комитеты в армии за исключением ротных, которые будут иметь дело лишь с вопросами солдатского желудка.
5. Восстановление порядка в тылу...
29 (16) июля в ставке под председательством А. Ф. Керенского, в присутствии Терещенко, состоялась конференция всех командующих отдельными фронтами. На совещании ген. Деникин произнес речь с перечислением тех мер, которые нужно было немедленно ввести для спасения армии. Все присутствующие генералы, начинало Брусилова, Алексеева, Рузского, Лукомского и др., кончая комиссаром юго-западного фронта Савинковым, полностью присоединились к проекту Деникина, и его, таким образом, можно рассматривать как программу контрреволюции...
Вот основные пункты программы:
1. Сознание своей ошибки и вины Временным правительством перед офицерством.
2. Петрограду прекратить всякое военное законодательство. Полная мощь верховному главнокомандующему.
3. Изъять политику из армии.
4. Отменить «декларацию». Упразднить комиссаров и комитеты, постепенно изменяя функции последних.
5. Вернуть власть начальникам. Восстановить дисциплину и внешние формы порядка я приличия.
6. Ввести военно-революционные суды и смертную казнь для тыла войск и гражданских лиц, совершающих одинаковые преступления.
7. Создать в резерве отборные части трех родов оружия как опору против военного бунта и ужасов предстоящей демобилизации.
Если из этой программы отбросить один-два пункта, то все остальное буквально совпадает с проектом английского ген. Нокса...
Программа русской контрреволюции была и программой «союзников». Последние если и не были инициаторами, то безусловно были наиболее активными пособниками корниловщины - таков вывод из сравнения и сопоставления обеих программ.
Но тут собственно и догадки не нужны. У нас имеется прямое свидетельство одного из союзников.
6 марта 1919 г. член американского Красного креста полковник Робинс давал показания Овермэновской комиссии Американского сената. Создана была эта комиссия в разгар интервенции, чтобы показать американскому общественному мнению большевизм в самом отвратительном виде. С этой целью в комиссию были вызваны для дачи показаний все, кто мог рассказать о грабежах, национализации женщин (самая популярная тема в отчете… на 1840 страницах), насилиях со стороны большевиков и т. п...
Этой-то комиссии Робинс говорил:
«Союзные представители участвовали в этой авантюре (корниловской - И. М.) из искренних и патриотических побуждений. Будучи тесно связаны со старым режимом, они не входили ни в какие устные соглашения с новым строем и внимательно прислушивались ко всему тому, что говорили 7% населения (верхушка - И. М.), сознавшие, что в случае укрепления революции им придется навсегда распроститься со своими старыми привилегиями»...
«Он продолжал, - передает свой разговор с ген. Ноксом полковник Робинс: - «Вам бы следовало быть с Корниловым». Я ответил: «Но вы, генерал, были с Корниловым». И он покраснел, вспомнив, что мне известно, что английские офицеры, одетые в русскую военную форму, в английских танках следовали за, наступавшим Корниловым и едва не открыли огонь по корниловским частям, когда те отказались наступать дальше Пскова...»
Сам английский посол опять-таки не сумел скрыть своей руководящей роли в авантюре. Еще 5 сентября (23 августа) к нему явился «русский друг, состоявший директором одного из крупнейших петроградских банков», рассказал о готовящемся 8 сентября (26 августа) перевороте и попросил подмоги британских броневиков и помощи в случае неудачи предприятия. Посол, по его словам, ответил, что его долг сообщить правительству о заговоре, однако он не хочет обмануть доверие «друзей», но ни помощи, ни поддержки оказывать не собирается, а советует им отказаться от предприятия. Дальше однако посол сам опрокидывает всю маскировку:
«Если бы генерал Корнилов был благоразумен, - сказал он своему собеседнику, - то он подождал бы, пока большевики не сделают первый; шаг, а тогда он пришел бы и раздавил их».
…первым шагом всего предприятия должно было быть выступление казаков атамана Дутова в Петрограде под видом большевиков…
9 октября (26 сентября) три посла - английский, французский и итальянский - посетили Керенского и от имени правительств потребовали принять все меры к восстановлению боеспособности армии.
Как ни привыкло правительство Керенского к понуканиям со стороны союзников, но последний акт, явно напоминавший полуколониальные отношения, вывел его из состояния колебания. Понимая, какую бурю возмущения вызовет опубликование происшедшего, Керенский потребовал сохранения инцидента в тайне...
Соннино, итальянский министр иностранных дел, ответил, что «заявление трех послов вызвано исключительно желанием помочь Временному правительству дать ему в руки оружие или точку опоры на случай, если бы оно признало полезным воспользоваться им по отношению к внутренним элементам, причиняющим ему затруднения».
Короче, весь сыр-бор загорелся, чтобы побудить правительство выступить против большевиков.
Французский министр позже подчеркнул, что выступление трех послов имело в виду побудить русское правительство к более энергичной внутренней политике. По мнению французов, русское правительство «могло бы путем энергичных мер, опираясь на верные войска, утвердить свою власть, восстановить боеспособность армии и подавить максималистские проявления»...
3 ноября (21 октября) 1917 г. в помещении американского Красного креста состоялось совещание...
Ген. Нокс в присутствии русских принялся бичевать Россию, Керенского за его некомпетентность, за боязнь перестрелять большевиков; русских генералов - за поражение на фронте, а русских солдат назвал «трусливыми, завистливыми собаками». Когда возмущенные русские члены совещания вышли из комнаты, между Ноксом и Робинсом произошел следующий диалог:
«Нокс. В настоящее время единственно, что остается в России - это Савинков, Каледин и военная диктатура. Этот народ должен иметь над собой кнут.
Робинс. Генерал, вы, может быть, получите диктатуру совершенно другого характера.
Нокс. Вы подразумеваете этих прохвостов - Ленина, Троцкого и большевиков?
Робинс. Да, я их именно имею в виду.
Нокс. Полковник Робинс, вы не военный человек; вы ничего не смыслите в военных делах. Военные люди знают, как поступать с этими типами. Мы их просто ставим к стенке и расстреливаем»...
Оного факта выхода России из империалистской цепи, приковывавшей весь мир к войне… было достаточно, чтобы заставить «союзников» обратиться к последнему средству, остававшемуся в их распоряжении - вооруженному вмешательству.
«Здесь нет места людям, предубежденным против этой экспедиции, - объяснял парламенту мотивы интервенции Черчилль. - …Жизненно было необходимо принять все меры против России, чтобы заставить ее сдерживать на русском фронте максимальное количество русских войск».