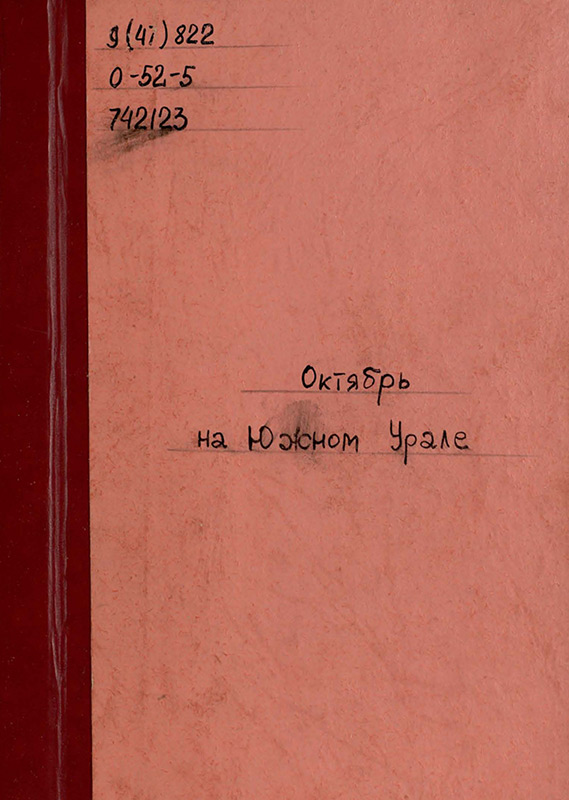О положении южно-уральских рабочих в России, которую мы потеряли
Из сборника «Октябрь на Южном Урале».
…характерной чертой развития промышленности Южного Урала в период после революции 1905 г., является замедление металлургического железоделательного производства и возникновение химических и металло- и деревообрабатывающих предприятий.
Так дело шло до того момента, когда гроза империалистической войны потрясла Европу...
[Читать далее]Война снова предъявила южно-уральской промышленности спрос на металлургические изделия, и заводчики, осыпаемые кредитами государства и прибыльными военными заказами, оживили замиравшие металлургические заводы Южного Урала.
Однако это временное военное оживление южно-уральской металлургии в перспективе, по окончании войны, не сулило ничего хорошего ни заводам, ни рабочим-металлистам.
«Все станки, машины и двигатели работали беспрерывно день и ночь, без надлежащего ремонта, без своевременной смены срабатывающихся механизмов, и быстрый износ орудий производства неуклонно, но верно подготовлял агонию... южно-уральской промышленности...» (Уфимский октябрьский сборник «1917-1920» - ст. «Промышленность Уфимской губернии»).
А кроме того, прекращение войны означало для железоделательных заводов Южного Урала или их сокращение, или полный возврат на прежний довоенный путь упадка и замирания.
Довоенная и военная история «развития» южно-уральских заводов лучше всего показывает рабочим сущность капиталистического производства с его анархией, конкуренцией, безработицей и хищническими приемами.
Советскому хозяйству досталось на Южном Урале незавидное наследство: за последние два десятка лет, до революции, капиталисты чрезвычайно мало тратили денежных сумм на расширение и развитие предприятий... Вот Миньярский завод. Вековые стены огромных сооружений искривились. Встречаются широкие трещины. Нижние части разрушаются... Арки держатся с помощью подпорок... Машины и станки изношены до последней крайности...
Юрюзанский завод - изувечен насмерть. В 1908 г. завод был остановлен... В течение 1909-1910 гг. владелец продает на слом все железные части завода... На глазах недоумевающего населения началось варварское насилие над живым организмом промышленной жизни. Чтобы достать один-два пуда железа, хищники разламывали стены зданий, снимали кровлю с корпусов. В общем потоке и разграблении погибла совсем новая мартеновская печь...
К моменту великой Октябрьской революции Урал перевал тяжелый кризис. Еще дымились домны, поглощая последние запасы угля, съеденные долгой войной, работали мартены и прокатные станы, но уже чувствовался скорый конец. Заводы, оставленные владельцами без всяких оборотных средств, с изношенным оборудованием и истощенными запасами топлива и материалов, работающие на нужды войны, нуждались в большом переоборудовании и ремонте...
Судьбу уральских заводов делили рабочие полностью...
С конца XIX столетия вплоть до 1912 г. частные заводы частью сокращали производство, а частью совсем закрывались их владельцами. Число рабочих на казенных водах возросло, а на заводах Симской и Катавской группы за 12 лет уменьшилось почти в 3 раза.
В период упадка промышленности капиталисты обычно сводят старые счеты с рабочими. Прежние завоевания рабочих последовательно отнимаются, условия труда ухудшаются до невозможных пределов...
Бельгийское общество в 1899 г. снизило оплату рабочих на пудлинговых печах в Усть-Катавском заводе. Прежде рабочая смена доставляла в день 110 пуд. 15 фун. железа. За каждый пуд выделанного железа выплачивалось приблизительно 4 3/4 коп. По новым правилам, какие ввела Бельгийская компания, каждая смена за 12 часов работы обязывалась представить 183 пуда железа. За каждый выделанный пуд рабочим причиталось уже только 1/3 к. Рабочие отказались принять новые условия. Заводоуправление отчасти уступило. А в результате все-таки остался 12 час. рабочий день и расценка за пуд снизилась с 4 3/4 к. до 2 9/10 к.
Жандармский ротмистр Вонсяцкий, который обследовал причины забастовки рабочих на Усть-Катавском заводе, отмечает: «И так работать 12 часов тяжело. Долго человек нести такого труда не может, особенно в летнее, без того жаркое время»; в донесении начальству тот же ротмистр признается, что «во многих случаях заявления рабочих, бастующих от безработицы, справедливы, но побудить бельгийцев к удовлетворению рабочих нет законного основания; последние категорически заявляют, что они фабриканты, а не «содержатели богадельни»...
Уфимский окружной инженер пишет: «Забастовка на этом заводе, по моему мнению, в значительной степени может быть названа отголоском и вызвана примером беспорядков в Катавском заводе, и естественно, что при малости заводского заработка здесь, главным образом, возник вопрос о прибавке платы».
Как видим, самые ретивые агенты правительства и злостные враги рабочего единодушно констатируют «малость заводского заработка» и признают, что работать 12 часов «тяжело».
На Юрюзанском заводе у князя Белосельского-Белозерского установился такой порядок приема на завод: прежде чем получить работу, желающий должен был предварительно за определенную плату нарубить дров и вывезти к заводу. Правило распространялось одинаково, как на лошадных рабочих, так и на безлошадных.
Уфимский губернатор Лонгвинов доносит в департамент полиции: «…многие, чтоб иметь летом работу на заводе, не имея лошади, нанимают за себя других и получают доставленные на заводы дрова, например, 4 рубля, платят себя 5 руб., а иногда и больше...»
«Такая же кабальная система снабжения завода древесным топливом практиковалась в Катав-Ивановском заводе, - пишет Уфимский окружной инженер, - заводоуправление заставляет рабочих, когда им неудобно или нельзя, возить дрова завод, или рельсы на станцию и не исполнившим этого не дают очереди в фабричной работе...»
Казалось бы, дальше идти некуда: рабочий был вынужден платить капиталисту за право отдать себя в эксплуатацию на завод.
Официальные документы рисуют целую систему обсчитывания и грабежа рабочих среди белого дня. Рабочим на личном опыте приходилось близко знакомиться не только с техническими калькуляциями работ, но также с бухгалтерскими счетами.
Уфимский окружной инженер доносит о делах в Катав-Ивановском заводе: «по вопросу о ненормальности расчета в апреле месяце убиральщиков рельс я придерживаюсь того мнения, что они имели основание считать себя расчитанными неправильно, т. к. получили премию за передел, т. е. за излишнюю прокатку, вместо 4 коп. со штуки всего лишь 2,6 к.».
Главный начальник Уральских заводов пишет окружным инженерам и горным начальникам: «Неправильная приемка заводом руды, недомерка коробов угля и т. п. нередко влекут за собою споры и недоразумения». Но неправильная приемка заводами работы оказалась столь частым явлением, что по сообщению того же горного начальника, недоразумения могли «служить и предметом стачек», массовых заявлений и неудовольствий. Наконец, он указывает на беззаконные действия заводчиков при всех расчетах с рабочими; такие же примеры можно привести из специально заводской деятельности рабочих и расчетов с ними за сдельную работу...
В дополнение… надлежит добавить о крайней изнашиваемости самой рабочей силы. Тяжелые условия труда с 12-часовым рабочим днем на «огневых» работах влекли за собою постоянные несчастные случаи.
Свои впечатления от поездки по заводам Уфимский губернатор описывает так: «ни на одном заводе на Урале ко мне не явилось столько искалеченных людей с жалобами на заводоуправление, как на Усть-Катавском. Все мольбы сводились к тому, что увечья, полученные на заводе во время работы, мешают возможности работать, а та страховая премия, которая выдается рабочим, совершенно не обеспечивает самого скромного существования».
Искалеченные рабочие жаловались на отсутствие предохранительных мер на производстве и просили лишь самого скромного обеспечения и охраны труда в пределах законов, существовавших на этот счет. Однако и эта ничтожная страховка существовала для рабочего только формально, на бумаге, «так как премия выдается по степени калечения и непригодности к труду, засвидетельствованной единичным актом врача, находящегося на службе заводоуправления и вполне от него зависимого».
Таким образом, в основу определения нетрудоспособности, по разъяснению Уфимского окружного инженера, надлежало принимать акт, составленный одним заводским врачом. Врач, состоя на службе завода, не мог, конечно, быть непристрастным в этом деле. Если врач не будет соблюдать интересов капиталиста, которые всегда идут в ущерб рабочим, значит, он лишится выгодной должности в заводском госпитале. Понятно, что степень повреждения устанавливалась не в зависимости от объектов условий, а под диктовку заводоуправления. Таков был «закон жизни» не только для врача, но для всей заводской администрации в целом.
Причем, конечно, при освидетельствовании увечий ставились бесчисленные рогатки. В каждом конкретном случае волокита тянулась месяцами, чтобы время изгладило из памяти свежесть впечатления от несчастного случая. То же высокопоставленное лицо пишет: «до какой степени равнодушия к рабочему люду довело свое отношение заводоуправление, Ваше высокородие может усмотреть из жалобы того мастерового, который изувечен еще на празднике Св. Пасхи и до сего времени еще не выяснено его положение». Письмо губернатора окружному инженеру датировано 30 июня, т. е. по меньшей мере писано через два-три месяца после несчастного случая.
Усть-Катавский завод не представлял исключения из ряда других южно-уральских заводов. Просто администрация критиковала Бельгийское общество больше чем, например, господ Балашевых: с последними ссориться было невыгодно и опасно.
Для характеристики положения рабочих на частных заводах, мы сознательно предпочли «секретную», «совершенно секретную» переписку высших должностных лиц. Эти документы исходят от врагов рабочего класса и, следовательно, не могут преувеличивать произвола заводчиков, а должны, наоборот, скрашивать произвол. Стало быть, в действительности положение рабочих было еще ужаснее, чем рисуется приведенных циркулярах и письмах.
Нам хорошо известно, как трудно было в царское время рабочему и крестьянину подать жалобу хотя бы губернатору. Значит, факты произвола и стеснения не могли считаться единичными, если они привлекали к себе внимание высших властей, включительно до министерства. Значит в действительности факты обсчитывания рабочих, всяческого обмана, притеснения, жестокого обращения были массовым явлением...
В марте 1896 года на Юрюзанском чугуно-плавильном заводе произошли волнения рабочих на экономической почве.
«Причина недовольства со стороны рабочих замечается главным образом, - писал Уфимский губернатор в своем донесении в департамент полиции, - в сокращении заводоуправлением работ на Юрюзанском заводе». На волнения рабочих также влияли кабальные условия получения работы и дерзкое обращение управителя завода с рабочими.
В апреле 1897 года возникла забастовка на Катав-Ивановском заводе, причем рабочие предъявили в качестве основного требования: удалить инженера Гринберга, который притеснял рабочих, обращаясь с ними грубо, сгоняя с работы без предупреждения и т. д.; окружной инженер об этой забастовке доносил: «хотя никаких беспорядков не было, но упорство и возбуждение были велики...»
В апреле 1897 года возникла забастовка на Усть-Катавском заводе; «главная причина неудовольствия, - писал окружной инженер в своем донесении, - заключается в недостатке заработка и - что, вообще, заводоуправление и отдельные лица заводского управления, якобы притесняют рабочих...»
Весной 1896 года и 1897 года бастовали рабочие Златоустовского завода (прокатные, фабрики), недовольные низкими расценками и малыми заработками, причем, бросив работу, рабочие потребовали увеличения заработной платы и 8-часовых рабочих смен вместо 12-часовых...
Большинство этих первых выступлений южно-уральских рабочих кончилось неудачно, а там, где удавалось рабочим добиться частичных улучшений, администрация стремилась при первом удобном случае эти улучшения ликвидировать и восстановить прежнее положение...
Уже в эти годы намечается основной прием администрации и царских чиновников в борьбе с рабочим движением: угроза, полицейская расправа; например, главный начальник Уральских заводов Баклевский, встревоженный развивающимся рабочим движением, писал: «было бы особенно желательно иметь в Златоусте сотню казаков...»; окружной инженер Зеленцов в связи с забастовкой на Усть-Катавском заводе доносил, что из числа усть-катавских рабочих три человека замечены, как наиболее деятельные участники. Они по распоряжению г. губернатора были арестованы… и отправлены в г. Уфу...
13-го марта 1903 г. (ст. ст.) администрация Златоустовских заводов при выдаче расчетных книжек предложила рабочим подписаться в них под рядом пунктов, которые стесняли рабочих. Рабочие, отказавшись подписаться, послали выборных для переговоров с администрацией; выборные были арестованы и, когда рабочие пошли с коллективным требованием к губернатору об освобождении своих представителей, они были встречены залпами; оказалось в результате убитых около 100 человек, раненых до 190 чел.
…рабочий кузнечного цеха Симского завода тов. К. Горбунов рассказывает в своих воспоминаниях: «Весной 1903 года мы уже группой собирались и ходили к управителю завода просить пятачок добавки, но, как еще плохо организованные, мы с первого грубого слова управителя завода разбегались по сторонам, оставляя с управителем более стойкого, который мог резко говорить... этого рабочего брали на заметку, и он в цехе подвергался всяким лишениям вплоть до увольнения с завода...»
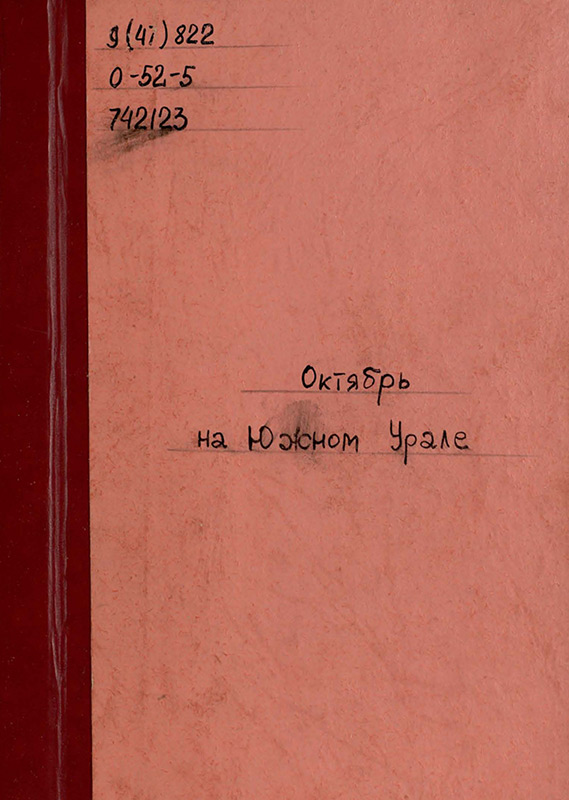
…характерной чертой развития промышленности Южного Урала в период после революции 1905 г., является замедление металлургического железоделательного производства и возникновение химических и металло- и деревообрабатывающих предприятий.
Так дело шло до того момента, когда гроза империалистической войны потрясла Европу...
[Читать далее]Война снова предъявила южно-уральской промышленности спрос на металлургические изделия, и заводчики, осыпаемые кредитами государства и прибыльными военными заказами, оживили замиравшие металлургические заводы Южного Урала.
Однако это временное военное оживление южно-уральской металлургии в перспективе, по окончании войны, не сулило ничего хорошего ни заводам, ни рабочим-металлистам.
«Все станки, машины и двигатели работали беспрерывно день и ночь, без надлежащего ремонта, без своевременной смены срабатывающихся механизмов, и быстрый износ орудий производства неуклонно, но верно подготовлял агонию... южно-уральской промышленности...» (Уфимский октябрьский сборник «1917-1920» - ст. «Промышленность Уфимской губернии»).
А кроме того, прекращение войны означало для железоделательных заводов Южного Урала или их сокращение, или полный возврат на прежний довоенный путь упадка и замирания.
Довоенная и военная история «развития» южно-уральских заводов лучше всего показывает рабочим сущность капиталистического производства с его анархией, конкуренцией, безработицей и хищническими приемами.
Советскому хозяйству досталось на Южном Урале незавидное наследство: за последние два десятка лет, до революции, капиталисты чрезвычайно мало тратили денежных сумм на расширение и развитие предприятий... Вот Миньярский завод. Вековые стены огромных сооружений искривились. Встречаются широкие трещины. Нижние части разрушаются... Арки держатся с помощью подпорок... Машины и станки изношены до последней крайности...
Юрюзанский завод - изувечен насмерть. В 1908 г. завод был остановлен... В течение 1909-1910 гг. владелец продает на слом все железные части завода... На глазах недоумевающего населения началось варварское насилие над живым организмом промышленной жизни. Чтобы достать один-два пуда железа, хищники разламывали стены зданий, снимали кровлю с корпусов. В общем потоке и разграблении погибла совсем новая мартеновская печь...
К моменту великой Октябрьской революции Урал перевал тяжелый кризис. Еще дымились домны, поглощая последние запасы угля, съеденные долгой войной, работали мартены и прокатные станы, но уже чувствовался скорый конец. Заводы, оставленные владельцами без всяких оборотных средств, с изношенным оборудованием и истощенными запасами топлива и материалов, работающие на нужды войны, нуждались в большом переоборудовании и ремонте...
Судьбу уральских заводов делили рабочие полностью...
С конца XIX столетия вплоть до 1912 г. частные заводы частью сокращали производство, а частью совсем закрывались их владельцами. Число рабочих на казенных водах возросло, а на заводах Симской и Катавской группы за 12 лет уменьшилось почти в 3 раза.
В период упадка промышленности капиталисты обычно сводят старые счеты с рабочими. Прежние завоевания рабочих последовательно отнимаются, условия труда ухудшаются до невозможных пределов...
Бельгийское общество в 1899 г. снизило оплату рабочих на пудлинговых печах в Усть-Катавском заводе. Прежде рабочая смена доставляла в день 110 пуд. 15 фун. железа. За каждый пуд выделанного железа выплачивалось приблизительно 4 3/4 коп. По новым правилам, какие ввела Бельгийская компания, каждая смена за 12 часов работы обязывалась представить 183 пуда железа. За каждый выделанный пуд рабочим причиталось уже только 1/3 к. Рабочие отказались принять новые условия. Заводоуправление отчасти уступило. А в результате все-таки остался 12 час. рабочий день и расценка за пуд снизилась с 4 3/4 к. до 2 9/10 к.
Жандармский ротмистр Вонсяцкий, который обследовал причины забастовки рабочих на Усть-Катавском заводе, отмечает: «И так работать 12 часов тяжело. Долго человек нести такого труда не может, особенно в летнее, без того жаркое время»; в донесении начальству тот же ротмистр признается, что «во многих случаях заявления рабочих, бастующих от безработицы, справедливы, но побудить бельгийцев к удовлетворению рабочих нет законного основания; последние категорически заявляют, что они фабриканты, а не «содержатели богадельни»...
Уфимский окружной инженер пишет: «Забастовка на этом заводе, по моему мнению, в значительной степени может быть названа отголоском и вызвана примером беспорядков в Катавском заводе, и естественно, что при малости заводского заработка здесь, главным образом, возник вопрос о прибавке платы».
Как видим, самые ретивые агенты правительства и злостные враги рабочего единодушно констатируют «малость заводского заработка» и признают, что работать 12 часов «тяжело».
На Юрюзанском заводе у князя Белосельского-Белозерского установился такой порядок приема на завод: прежде чем получить работу, желающий должен был предварительно за определенную плату нарубить дров и вывезти к заводу. Правило распространялось одинаково, как на лошадных рабочих, так и на безлошадных.
Уфимский губернатор Лонгвинов доносит в департамент полиции: «…многие, чтоб иметь летом работу на заводе, не имея лошади, нанимают за себя других и получают доставленные на заводы дрова, например, 4 рубля, платят себя 5 руб., а иногда и больше...»
«Такая же кабальная система снабжения завода древесным топливом практиковалась в Катав-Ивановском заводе, - пишет Уфимский окружной инженер, - заводоуправление заставляет рабочих, когда им неудобно или нельзя, возить дрова завод, или рельсы на станцию и не исполнившим этого не дают очереди в фабричной работе...»
Казалось бы, дальше идти некуда: рабочий был вынужден платить капиталисту за право отдать себя в эксплуатацию на завод.
Официальные документы рисуют целую систему обсчитывания и грабежа рабочих среди белого дня. Рабочим на личном опыте приходилось близко знакомиться не только с техническими калькуляциями работ, но также с бухгалтерскими счетами.
Уфимский окружной инженер доносит о делах в Катав-Ивановском заводе: «по вопросу о ненормальности расчета в апреле месяце убиральщиков рельс я придерживаюсь того мнения, что они имели основание считать себя расчитанными неправильно, т. к. получили премию за передел, т. е. за излишнюю прокатку, вместо 4 коп. со штуки всего лишь 2,6 к.».
Главный начальник Уральских заводов пишет окружным инженерам и горным начальникам: «Неправильная приемка заводом руды, недомерка коробов угля и т. п. нередко влекут за собою споры и недоразумения». Но неправильная приемка заводами работы оказалась столь частым явлением, что по сообщению того же горного начальника, недоразумения могли «служить и предметом стачек», массовых заявлений и неудовольствий. Наконец, он указывает на беззаконные действия заводчиков при всех расчетах с рабочими; такие же примеры можно привести из специально заводской деятельности рабочих и расчетов с ними за сдельную работу...
В дополнение… надлежит добавить о крайней изнашиваемости самой рабочей силы. Тяжелые условия труда с 12-часовым рабочим днем на «огневых» работах влекли за собою постоянные несчастные случаи.
Свои впечатления от поездки по заводам Уфимский губернатор описывает так: «ни на одном заводе на Урале ко мне не явилось столько искалеченных людей с жалобами на заводоуправление, как на Усть-Катавском. Все мольбы сводились к тому, что увечья, полученные на заводе во время работы, мешают возможности работать, а та страховая премия, которая выдается рабочим, совершенно не обеспечивает самого скромного существования».
Искалеченные рабочие жаловались на отсутствие предохранительных мер на производстве и просили лишь самого скромного обеспечения и охраны труда в пределах законов, существовавших на этот счет. Однако и эта ничтожная страховка существовала для рабочего только формально, на бумаге, «так как премия выдается по степени калечения и непригодности к труду, засвидетельствованной единичным актом врача, находящегося на службе заводоуправления и вполне от него зависимого».
Таким образом, в основу определения нетрудоспособности, по разъяснению Уфимского окружного инженера, надлежало принимать акт, составленный одним заводским врачом. Врач, состоя на службе завода, не мог, конечно, быть непристрастным в этом деле. Если врач не будет соблюдать интересов капиталиста, которые всегда идут в ущерб рабочим, значит, он лишится выгодной должности в заводском госпитале. Понятно, что степень повреждения устанавливалась не в зависимости от объектов условий, а под диктовку заводоуправления. Таков был «закон жизни» не только для врача, но для всей заводской администрации в целом.
Причем, конечно, при освидетельствовании увечий ставились бесчисленные рогатки. В каждом конкретном случае волокита тянулась месяцами, чтобы время изгладило из памяти свежесть впечатления от несчастного случая. То же высокопоставленное лицо пишет: «до какой степени равнодушия к рабочему люду довело свое отношение заводоуправление, Ваше высокородие может усмотреть из жалобы того мастерового, который изувечен еще на празднике Св. Пасхи и до сего времени еще не выяснено его положение». Письмо губернатора окружному инженеру датировано 30 июня, т. е. по меньшей мере писано через два-три месяца после несчастного случая.
Усть-Катавский завод не представлял исключения из ряда других южно-уральских заводов. Просто администрация критиковала Бельгийское общество больше чем, например, господ Балашевых: с последними ссориться было невыгодно и опасно.
Для характеристики положения рабочих на частных заводах, мы сознательно предпочли «секретную», «совершенно секретную» переписку высших должностных лиц. Эти документы исходят от врагов рабочего класса и, следовательно, не могут преувеличивать произвола заводчиков, а должны, наоборот, скрашивать произвол. Стало быть, в действительности положение рабочих было еще ужаснее, чем рисуется приведенных циркулярах и письмах.
Нам хорошо известно, как трудно было в царское время рабочему и крестьянину подать жалобу хотя бы губернатору. Значит, факты произвола и стеснения не могли считаться единичными, если они привлекали к себе внимание высших властей, включительно до министерства. Значит в действительности факты обсчитывания рабочих, всяческого обмана, притеснения, жестокого обращения были массовым явлением...
В марте 1896 года на Юрюзанском чугуно-плавильном заводе произошли волнения рабочих на экономической почве.
«Причина недовольства со стороны рабочих замечается главным образом, - писал Уфимский губернатор в своем донесении в департамент полиции, - в сокращении заводоуправлением работ на Юрюзанском заводе». На волнения рабочих также влияли кабальные условия получения работы и дерзкое обращение управителя завода с рабочими.
В апреле 1897 года возникла забастовка на Катав-Ивановском заводе, причем рабочие предъявили в качестве основного требования: удалить инженера Гринберга, который притеснял рабочих, обращаясь с ними грубо, сгоняя с работы без предупреждения и т. д.; окружной инженер об этой забастовке доносил: «хотя никаких беспорядков не было, но упорство и возбуждение были велики...»
В апреле 1897 года возникла забастовка на Усть-Катавском заводе; «главная причина неудовольствия, - писал окружной инженер в своем донесении, - заключается в недостатке заработка и - что, вообще, заводоуправление и отдельные лица заводского управления, якобы притесняют рабочих...»
Весной 1896 года и 1897 года бастовали рабочие Златоустовского завода (прокатные, фабрики), недовольные низкими расценками и малыми заработками, причем, бросив работу, рабочие потребовали увеличения заработной платы и 8-часовых рабочих смен вместо 12-часовых...
Большинство этих первых выступлений южно-уральских рабочих кончилось неудачно, а там, где удавалось рабочим добиться частичных улучшений, администрация стремилась при первом удобном случае эти улучшения ликвидировать и восстановить прежнее положение...
Уже в эти годы намечается основной прием администрации и царских чиновников в борьбе с рабочим движением: угроза, полицейская расправа; например, главный начальник Уральских заводов Баклевский, встревоженный развивающимся рабочим движением, писал: «было бы особенно желательно иметь в Златоусте сотню казаков...»; окружной инженер Зеленцов в связи с забастовкой на Усть-Катавском заводе доносил, что из числа усть-катавских рабочих три человека замечены, как наиболее деятельные участники. Они по распоряжению г. губернатора были арестованы… и отправлены в г. Уфу...
13-го марта 1903 г. (ст. ст.) администрация Златоустовских заводов при выдаче расчетных книжек предложила рабочим подписаться в них под рядом пунктов, которые стесняли рабочих. Рабочие, отказавшись подписаться, послали выборных для переговоров с администрацией; выборные были арестованы и, когда рабочие пошли с коллективным требованием к губернатору об освобождении своих представителей, они были встречены залпами; оказалось в результате убитых около 100 человек, раненых до 190 чел.
…рабочий кузнечного цеха Симского завода тов. К. Горбунов рассказывает в своих воспоминаниях: «Весной 1903 года мы уже группой собирались и ходили к управителю завода просить пятачок добавки, но, как еще плохо организованные, мы с первого грубого слова управителя завода разбегались по сторонам, оставляя с управителем более стойкого, который мог резко говорить... этого рабочего брали на заметку, и он в цехе подвергался всяким лишениям вплоть до увольнения с завода...»