Вербовка
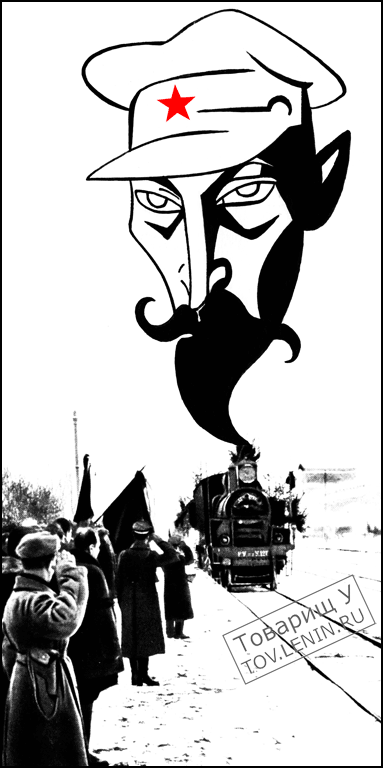
Пригородный автобус повышенной расшатанности весело подпрыгивал на ухабах, ну и мы, разумеется, вместе с ним - я и молодой, цветущий друг мой Андрей Диченко diarey666. Андрей - атипичный белорусский литератор: в нём нет ни грана сермяжно-бульбовых серости и уныния, и я не нарадуюсь его разнообразным талантам и всегдашней бодрости духа.
Один из талантов Андрея, особенно редкий в наших краях - умение находить и извлекать на свет божий интересных, ни на кого не похожих людей. Здесь-то таких всё чаще предпочитают не заметить, а то и подзатоптать. Именно Андрею с его общительным темпераментом и незамутнённым взглядом на жизнь мы обязаны открытием могучего витебского стихослагателя Кирилла Метелицы; трэш-поэта из Слуцка Дмитрия Рудаковского, патриота и гражданина; Бориса Иванова, седобородого белорусско-еврейского художника, ушедшего от мирской суеты и поселившегося в деревне под Витебском, рисуя алефы и меноры… список этот можно продолжать и продолжать.
Вот и теперь diarey666 делился новыми открытиями.
- Зямля пад белымi крыламi изобилует потрясающими экземплярами. В Жлобине чувак на приусадебном участке коллекционирует биотуалеты. Участка давно не хватает, он их ставит один на другого, дошло уже до третьего этажа, настоящие соты. Под Лоевом бабушка разговаривает с аистами, по пятницам они вместе исполняют «Боже, царя храни». В Слониме народный умелец изваял десятиметровый глиняный свисток в виде головы Кецалькоатля…
- Ну а этот? Этот, к которому мы едем?
- Он пожизненный агент Метафизической Гэбни с пропуском в Чёрную Лубянку.
- Метафизической Гэбни? Насчёт Кровавой Гэбни я осведомлён, а вот про Метафизическую слышу впервые. И почему он живёт в такой глуши?
- Потерпи немного, - хитро улыбнулся Андрей. - Скоро узнаешь.
Автобус доехал, наконец, до деревни Ржавка-2. Нас встретил красноносый старик с усами Тараса Бульбы. Видавший виды коминтерновский костюм его был беспощадно измят; козырёк кепки преломлён. Брюки старик заправил в гигантские, измазанные навозом, кирзовые сапоги.
Собаки у его дома не лаяли.
«Не сказал бы я, что он похож на пожизненного агента», подумал я, вспомнив Вячеслава Тихонова и с пяток исполнителей роли Джеймса Бонда.
Старик накрыл на стол, вернее, выставил на него аутентичные самогонные бутылки. Стол и скамьи были вкопаны в землю во дворике под яблоней, у покосившегося забора. Хата и дистанционный сортир, охраняемые забором, покосились не менее, если не более.
Мы расположили на столе привезенные из города продукты. Чокнувшись, выпили огненную жидкость из гранёных стаканов.
- На еловых веточках настояно, - гордо сказал старик.
- Хорошо, - констатировал я.
- Ему доверять-то можно? - невежливо спросил старик Андрея, кивнув на меня.
- Конечно, можно, - сказал Андрей. - Он свободный художник и холодный философ.
- Хотя, конечно, у меня нет пропуска в философскую гэбуху или как там её, - сыронизировал я.
- Чаго ты смяесся, - обиделся старик. - Будзеш смяяцца, не покажу чебе Портал.
Начинающийся конфликт как-то замяли, пропустив ещё по паре стаканов. Самогон взыграл, многократно усилив внутренние органические процессы, и я направился к деревянному сортиру.
- Куды ты? - завопил вдруг мне вслед старик.
- Как куды? В парашу, - честно отвечал я, приоткрывая скрипучую дверь.
- Осторожно! - закричал Андрей. - Это и есть Портал!
Последние слова его я услышал уже в новом месте, мгновенно позабыв о малой нужде. Это действительно была Лубянка, не бестолковая московская, где в подземном переходе продают пирожки, но огромная пустынная Чёрная Лубянка под пасмурным холодным небом. Эта Лубянка, в отличие от той, московской, не была оскоплена; исполинский памятник Железному Феликсу, полуулыбаясь, как сфинкс, сверлил серые выси. Именно сверлил, медленно поворачиваясь по часовой оси, и полуулыбка его играла новыми и новыми жуткими смыслами. «Железное небо для Железного Феликса», подумал я, ошеломлённый и завороженный грандиозностью зрелища. Тяжёлый чёрный куб зловещего здания словно бы парил в низком, стелящемся по мокрому асфальту тумане. «Пожалуй, не пойду туда в сортир», - с опаской подумал я, созерцая изваяниям подобных великанов часовых с белыми, как мел, суровыми лицами. Следовало произвести тщательную рекогносцировку на местности.
По разные стороны от вращающегося памятника стояли чёрные мраморные скамьи, по четыре перпендикулярно зданию. На одной из них, прикрыв лицо пухлой рукой, сидел небольшой, похожий на колобка человек. Я подошёл к нему.
- Извините, - начал я, кашлянув, - вы не подскажете…
Человек отнял руку от лица и поднял голову. Сверкнули толстостёклые очки. Я снова был поражён.
- Снимите парик, Виктор Суворов, - сказал я ему. - В нём вы похожи на покойную Шуру Иванову из первого подъезда, ту самую, зимние похороны пса которой Шарика мы с Буровым организовывали в незабвенные времена учёбы в пятом классе.
- Вы что-то слишком много говорите, - присматриваясь ко мне недобро и стягивая парик с головы-кругляша, отвечал перебежчик. - Откуда вы меня знаете?
- Я поклонник вашего литературного таланта, - сознался я. - поразительное сочетание низости и высокой трагедии, прожжённой скаредности селянина и неискоренимой патриотической тоски… Вы предали свою Красную Родину, но так и не смогли вырвать её из своего сердца. Вы стремились к срыванию покровов, но в результате пришли к новой апологетической мифологии, так и не преодолев параноидно-гэбешного мышления, которое, впрочем, превратили в великолепный литературный инструмент. Средней руки вождь Сталин, попросту большой болт в самозаконном, самосоздавшемся механизме, был превращён Вами в его демиурга; в своём яростном отрицании Грузина вы пришли к почти мистическому поклонению созданному вами фантому. Вы увлечённо порочили советский строй и клеветали на великого Ленина, но сами навсегда оказались клеймены серпом и молотом. Вас раздирают противоречия между внутренним Штирлицем и внутренним дядей Мишей, тем самым, что учил вас когда-то торговать арбузами… Напряжение между этими полюсами породило прозу замечательного уровня и накала. Вы воспели самые свирепые институты Союза, как не воспевал их никто. «Аквариум» - великая книга, «Ледокол» не испортил даже ваш латентный сталинизм. Склонный к волнению и переживаниям, то, что англичане называют сенситив, любезный толстячок, обожающий комфорт, вы, конечно же, антропологически не годились для жестоких разведывательных дел. Отсюда - ваш уход, ваш личный, неисправимый крах. Однако именно вы научили самых разных людей тому, что главное в танке. Вы стали особенным предателем, мятущимся, измождённым, не находящим себе места, задавленным тяжким грузом своего предательства и ощущением невозможности что-либо исправить - в то время как сотни и тысячи убеждённых предателей Родины со стальными челюстями через какой-нибудь десяток лет спустя вашего побега не испытали ни малейших угрызений совести…
Так вещал я, заложив руки за спину, стоя перед Виктором Суворовым, он же Владимир Резун, в упоении окончательно позабыв о своих сиюминутных потребностях. Виктор казался растроганным. Он встал. Мелкий колючий дождь орошал перебежчика.
- Да, я Виктор Сувороў, - сказал он, и я в очередной раз отметил, что приятный малороссийский акцент его не искоренила и многолетняя практика английского. - Великое бремя на мне, и я жажду избавления. Да, я предал Красную Родину. И теперь я на Чёрной Лубянке. На мне два смертных приговора. Как погоны. И я пришёл сюда. Я нашёл Портал. Я вернулся. Я сдаюсь.

- Вы опоздали, писатель, - сообщил ему я. - Советского Союза больше нет, и один лишь мелкий бес знает, что творится за этими каменными стенами. Да ведь вы никогда особо не жаловали чекистов, как истый фанат ГРУ. А нынешние работники безопасности большей частью, я уверен, - просто бизнесмены под портретом Дзержинского, обслуживающие меркантильные интересы сильных мира сего. Вам некому теперь сдаваться; монстры и герои канули в Лету. Возвращайтесь домой и пишите книги.
- Вы не понимаете, товарищ, - отвечал мне Виктор. - Разве вы не видите, что это особенная Лубянка. Это - Чёрная Лубянка; она существует в вечности, в холодной вечности, в бесконечном сне господнем. Чёрная Лубянка вечна, как вечен идущий здесь дождь…
Упоминание о вечности и господе из уст гения и предателя заставило меня похолодеть. Я даже отступил от него на шаг. Вспомнился хмурый старик из Ржавки-2. Так вот она какая, Метафизическая Гэбня, подумал я. Не она ли, хладная и кромешная, свела с ума бабу Леру?
Памятник Основателю прекратил вращение, уставившись прямо на нас мраморными глазницами.
- Пора, - сказал Виктор Суворов, снимая запотевшие очки. - Я иду к ним.
- Понимаете ли вы, что вас здесь ожидает? - воскликнул я. - если обыкновенная, прозаическая гэбня не очень-то церемонилась с врагами и отступниками, то гэбня метафизическая должна быть куда суровей.
- Выхода нет, - прошептал Суворов, подавляя нервный вздох, - мне открылся Портал. А значит, нет не только выхода, но и возврата.
Подумав о том, что Портал открылся и мне, и мне, как и Суворову, тоже нет выхода из этой бескрайней каменистой хляби, я вновь похолодел. Бывший шпион стоял передо мной, маленький и съёжившийся. Капли дождя стекали по его симпатичному круглому лицу, быть может, смешиваясь с засекреченными слёзами.
- Ну что ж, идёмте, - решился я.
Мы молча прошли мимо часовых, синхронно толкнув тяжёлые двери. Часовые не шелохнулись.
Нога моя ступила на чёрный мягкий ковёр.
- Ненавижу их, - еле слышно прошептал Виктор Суворов, и я ощутил всю невыносимую чудовищность его внутренней борьбы.
В просторном холле было пусто. На стене напротив висел гигантский чёрный герб несуществующего Советского Союза. По обе стороны от него располагались широкие мраморные лестницы, устланные всё теми же чёрными коврами. Мы стали подниматься по одной из них, отчего-то избегая смотреть на герб. Звезда на нём, я всё же отметил боковым зрением, была ярко, кроваво, пламенно красной.
Поднявшись, завернули в очередной пустынный коридор, уже без ковров. Шаги наши разносились по зданию со всей неотвратимостью.
Внезапно одна из боковых дверей распахнулась, и оттуда повалил самый разнообразный люд. Мы с Виктором стали к стеночке, пропуская выходящих. Имя им было легион, и кого только не было среди них! Шагал, подпрыгивая, ужасный человек в костюме клоуна, ковыляла старуха с клюкой, целеустремлённо рассекал пространство хунвейбин с красной книжицей, гордо нёс орлиный профиль, украшенный орлиными же перьями, полуголый индейский вождь, а за ним своё брюхо неопределённый парламентарий в костюме от Brioni, цокали каблучками четыре разномастные проститутки в ярких тряпках, семенили под руку одинаково рыжие и чернобрюхие поп и раввин, топал измазанный рабочий с заглушенной газоносилкой, а за ним пожилой ботаник с сачком и в панамке, ступал аккуратно, как по поверхности Марса, космонавт со шлемом в руке, шёл, ведомый юным поводырем, слепой гусляр с длинной белой бородой, ехал иссохший, как тарань, задумчивый негр в инвалидном кресле, плыла красивая светловолосая девушка в костюме невесты, подбирая кремовые юбки, и даже давно умерший актёр Юл Бриннер шествовал рука об руку с академиком Келдышем, тоже давно умершим и тоже отчего-то наголо бритым. Замыкала шествие большая и гордая белая лама, которую я уже где-то видел раньше.
- Агенты, - прошептал Суворов, и я понял, что все они завербованы Метафизической Гэбнёй до скончания веков.
- Антропоморфные агенты, - поправил его глухой голос.
Мы обернулись.
- Все, кроме ламы. Она не агент, а вербовщик, - уточнил Железный Феликс.
Он возвышался над нами, мертвенно бледный, худой и неистовый, в знаменитой потёртой гимнастёрке и брюках галифе. Сапоги его, впрочем, сверкали. Но не сапоги завораживали, а серо-голубые глаза, «омытые слезами вечной скорби», как поэтически охарактеризовала их в своё время леди Шеридан. Вечная скорбь и вечная мерзлота не находили дна в этом тяжёлом, всепроникающем взгляде. Нечего говорить, что и мы с Суворовым дна не нашли.
- С новыми завербованными должен беседовать я, - глухо сообщил Дзержинский. - Таковы правила.
- Я пришёл сдаваться, - рапортовал Суворов, вытянувшись во фрунт.
- А я, в общем, провожаю человека. Прошу учесть, он крупный писатель. Ну и кроме того, как вам сказать, ищу туалет…
Правду говоря, посещение туалета манило не только насущными смыслами. Я ещё надеялся, что за дверями отхожего места на Лубянке может быть скрыт обратный, так сказать, портал в Ржавку-2.
- Здесь не бывает ошибок, - покачал головой Дзержинский, и очи его полыхнули вдруг. - Сюда приходят лишь те, кто должен придти.
Жестом он приказал следовать за ним, и мы последовали, безвольные и безжизненные, полурастворившиеся в леденящем взгляде с той стороны.
Прошли в скромный кабинет с чёрными стенами; лишь под каноническим портретом Ленина работы фотографа Жукова горела красная лампадка. Сели на жёсткие, почти рахметовские стулья; мы с Суворовым с одной стороны чёрного стола, Дзержинский с другой. С минуту он молча смотрел на нас, леденя. Едва заметный болезненный румянец играл на его тонких щеках.
- Я слушаю, - сказал, наконец, Дзержинский устало, хотя никто не просил его ничего выслушивать.
Суворов резко поднялся, скрипнув стулом.
- Я готов к вашим пыткам. Я знаю, что такое мука. Я не пришёл просить снисхождения. Я не пришёл каяться. Я считаю, что поступил правильно - тогда и сейчас. Я не мог сделать иначе. И сейчас не могу.
- Сядьте, - не повышая голоса, приказал Дзержинский, и перебежчик медленно сел. Железный Феликс побарабанил по столу тонкими пальцами.
- Мы не на Лубянке, Резун. Мы на Чёрной Лубянке. Здесь не имеет значения ни ваше покаяние, ни отсутствие такового. Здесь всё работает на Абсолют.
Невозможные глаза хозяина кабинета вновь вспыхнули ослепительно холодным светом, и стул, на котором сидел мгновение назад, гордо вскинув буйну голову, Виктор Суворов, сделался пуст. Волосы мои откровенно стали дыбом.
- Андропов! - крикнул Дзержинский. - Живо ко мне!
Дверь отворилась, и в кабинет быстрыми шагами вошёл коршунообразный человек в белом кителе.
- Принимайте, - скомандовал Дзержинский. - Заберите стул.
- Так точно, Феликс Эдмундович, - прохрустел Андропов.
В кабинете остались двое - я и Дзержинский, вовсе не фотографией на белой стене.
- Наслышан о вашем понимании революционной законности, - переведя дух, заговорил я. - Но пускать человека в распыл, даже не дав ему договорить свою последнюю речь! Это отвратительно…
- Вы невнимательно слушали меня, товарищ. Я уже сказал: здесь не пускают в распыл, здесь работают на Абсолют. Агент Резун будет работать на Абсолют в виде стула; учитывая его прошлое, мы не можем завербовать его иначе как неодушевлённый предмет.
Только теперь я осознал, что стул, который уносил Андропов, был уже не аскетическим раннечекистским, но очень даже удобным офисным, обитым первоклассной кожей полукреслом на колёсиках.
- Отныне Резун будет стулом, - продолжал Дзержинский. - Он будет транслировать для нас информацию из офиса одного выдающегося программиста в китайской провинции Яньчжоу, создающего мощнейшее кибероружие. Может быть, ему как агенту придётся задействовать для этого седалищный нерв сидящего на стуле; но, учитывая важность и сложность задания, это никак нельзя считать наказанием. Мы никоим образом не можем уничтожить сущность, сумевшую пройти сквозь Портал, каковой бы ни была её история в её прежнем бытии. Слишком редкий, слишком ценный материал для мировой метафизической революции, чтобы уничтожать его. Здесь, у нас, ваша прежняя жизнь не имеет ровным счётом никакого значения. Вы не можете ни обмануть нас, ни навредить нам. Все, кто нашёл нас - вне зависимости от того, каким образом это произошло, - самим фактом этого нахождения подвергнуты вербовке. Таков закон.
Сердце моё заколотилось. Я ведь и был той самой сущностью, которая прошла через портал. Однако, собравшись с силами, я нашёл в себе силы для стандартного банального вопроса.
- «Мы» - это кто?
- Это мы. Воины Абсолюта. Тонкие субстанции, составляющие и изменяющие эфир. Да, мы слишком призрачны и эфирны, чтобы составлять и изменять реальный мир; мы нуждаемся в агентах, в тех, кто обладает способностью проходить сквозь Портал; вы прошли сквозь Портал, уважаемый товарищ, и следовательно, вы будете нашим агентом. В сущности, наш теперешний разговор - большей частью формальность: вы уже завербованы.
Он туберкулёзно закашлялся и через некоторое время продолжал:
- Мы связаны с миром вашей повседневности тысячами незримых нитей; вам предстоит стать одной из этих нитей, коль скоро вы наделены способностью к трансляции и непосредственным действиям в повседневном мире. Это - почётно, и мы почитаем своих агентов; без них мы даже не мёртвая плоть, а мёртвая бесплотность; с ними мы неутомимые борцы за лучшую жизнь, непобедимые паладины небытия в войне за бытие. Кто мы без вас и кто вы без нас? Вы - наше драгоценное достояние; вы - точка, в которой мы собираем мир; а мы, коль скоро вы находитесь здесь - ваш единственный смысл. Другие до этого места просто не доходят.
- Но если я…
- Исключено, - перебил Дзержинский. - Вы уже.
Согласно правилам, по окончанию вербовки, тем из новоиспеченных агентов, кто в прежнем существовании не вступал с нами ни в какую конфронтацию, представляется самостоятельный выбор воплощения. Вы можете стать священным деревом, кинозвездой, идолом, тушканчиком или бронемашиной; в нынешнем вашем состоянии форма воплощения уже не играет никакой роли. Сейчас я покажу, из чего можно выбирать…
- Одну секунду, - сказал я, подавленный и почти смирившийся, - я бы всё-таки хотел сначала посетить туалет.
- Странно, - поднял бровь Дзержинский, - в вашем теперешнем состоянии такие желания уже не должны ощущаться… Ну хорошо, послушайте, мне нравятся ваши рисунки, - что если мы решим этот вопрос самым лучшим образом, сделав вас священной рекой Ганг?
- Тогда уже рекой Днепр, - отвечал я покорно, уже просыпаясь, - хочу соединять славян…
Проснувшись, я готов был почувствовать себя даже не Днепром, а Ниагарой. Впрочем, наяву вопрос разрешается проще; но уже за утренним кофием, умиротворённый, я задумался о том, не произошла ли всё-таки действительно этой ночью вербовка.