К семидесятилетию А.Д. Сахарова
Многотиражка ИФВЭ «Ускоритель», 17 мая 1991 г.
К юбилею А.Д. Сахарова
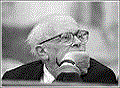
21 мая 1991 года отмечается семидесятилетие выдающегося ученого современности, великого гуманиста и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова. Уже полтора года нет его с нами, но память о нем жива. Мы попросили в эти дни рассказать о Сахарове человека, который лично его знал в течение многих лет.

Главный научный сотрудник ИФВЭ, член-корреспондент РАН СССР С.С. Герштейн рассказывает о пока ещё малоизвестных страницах жизни академика Сахарова.
Вот его рассказ.
Андрей Дмитриевич является основоположником ряда научных направлений, которые сейчас находятся в центре внимания современной науки и техники. Сахаровым, совместно с его учителем И.Е. Таммом, была выдвинута и разработана идея управляемого термоядерного синтеза, ставшая основой современных установок типа «Токамак», которая, можно надеяться, избавит человечество от энергетического кризиса в будущем. Им была выдвинута чрезвычайно смелая для своего времени гипотеза о несохранении барионного числа для объяснения барионной асимметрии Вселенной (к чему впоследствии привели модели Великого Объединения Сил Природы), заложены новые подходы к пониманию сил гравитации, выполнен ряд блестящих работ в области космологии, ядерной физики элементарных частиц. Трудно даже вообразить, какими результатами мог бы обогатить науку Андрей Дмитриевич, если бы самые активные и плодотворные для ученого годы его жизни не были посвящены созданию термоядерного оружия, которым Андрей Дмитриевич занимался с 1948 по 1968 годы. Сахарова называли но Западе «отцом водородной бомбы». Сейчас стало в общих чертах известно, что Андрей Дмитриевич сделал в этой области.
Идея водородной бомбы была впервые в Советском Союзе выдвинута еще в 1946 году И.И. Гуревичем, Я.Б. Зельдовичем, И.Я. Померанчуком и Ю.Б. Харитоном в небольшой заметке, переданной И.В. В. Курчатову. Сейчас эта работа найдена в архиве ИАЭ и будет опубликована в майском номере журнала «Успехи физических Наук».
Авторы заметили, что в ударной волне в плотном дейтерии, которая может быть создана при взрыве обычной атомной бомбы, возникают условия, необходимые для протекания ядерного синтеза. Первоначально на эту идею не обратили внимания.
В середине 1946 года ещё не был запущен ядерный реактор, а до первого испытания атомной бомбы ещё оставалось 3 года. Однако к 1948 году расчеты, связанные с этой идеей, уже полным ходом велись в Институте Химической физики под руководством Я.Б. Зельдовича и А.С. Компанейца. К этому времени важность проблемы была осознана правительством, и для проверки указанных расчётов специальным постановлением Совмина была создана в ФИАНе группа И.Е. Тамма, в которую вошел и А.Д. Сахаров.
Через несколько месяцев у Андрея Дмитриевича возникла его первая идея, которая во многом определила успех дела. Эта идея была гениально проста. Для того, чтобы реакция ядерного синтеза успевала произойти, необходимо было как можно сильнее сжать дейтерий. Сахаров заметил, что такое сжатие получается, если водород помещается в своего рода «слойке» из тяжелого элемента (урана), ионизация которого создает дополнительное давление. При этом получается двойная выгода, поскольку нейтроны, возникающие в ядерном синтезе, могут вызывать деление урана, при котором возникает дополнительно основная энергия взрыва. Эта первая идея Андрея Дмитриевича была объединена им с тем, что он назвал "второй идеей".
Дело в том, что к тому времени выяснилось, что скорость термоядерного синтеза в дейтерии недостаточно велика, и значительно быстрее (примерно в 100 раз) протекает реакция между ядрами дейтерия и трития. Однако тритий в природе практически отсутствует. Его можно получить, облучая нейтронами в реакторах изотоп лития-6. Для этого строились специальные заводы
. Вторая идея, высказанная несколькими людьми, заключалась в том, что литий надо поместить внутрь бомбы, и тогда нейтронное излучение, возникающее в процессе взрыва атомной бомбы, успеет за миллионные доли секунды наработать нужное количество трития. Такое предложение оказалось осуществимым, если воспользоваться первой идеей Сахарова. Получившиеся технические выгоды трудно было переоценить. Вместо жидкой дейтериево - тритиевой смеси (со сложнейшей криогеникой) в качестве ядерной взрывчатки оказалось возможным использовать твердое вещество - дейтерид лития. Всё устройство приобрело необходимые для оружия компактные размеры. Оно было впервые в мире успешно испытано в августе 1953 года. (Ранее американцы произвели испытания неподъёмного устройства, основанного на взрыве дейтериево - тритиевой смеси).
Дальнейшее усовершенствование термоядерного оружия было основано на третьей, как её называл Андрей Дмитриевич, идее, которая заключалась в возможности «удержания» мягкого рентгеновского излучения, выделяющегося при взрыве, и использовании его для дополнительного разогрева ядерной взрывчатки. Эту идею Сахаров разрабатывал вместе с Я. Б. Зельдовичем. При этом большой вклад внесли их молодые сотрудники.
Успешное испытание в 1955 году было окончательным решением проблемы. Оно показало плодотворность выдвинутых идей и открыло путь к конструированию термоядерных зарядов самых различных типов.
Будучи глубоко и искренне убежденным, что только равновесие ядерных вооружений может сохранить мир, Андрей Дмитриевич самозабвенно работал над совершенствованием термоядерного оружия. В этом огромная его заслуга перед нашей страной.
Однако с течением времени у него стали возникать сомнения. Вначале они были связаны с пренебрежением, которое проявлялось к опасностям для здоровья и жизни людей при проведении ядерных испытаний, а затем - с проведением опасных и технически не необходимых крупных испытаний в политических целях. Андрею Дмитриевичу в грубой форме было указано, что "не его дело вмешиваться в подобные вопросы". Так возникли первые трения Сахарова с начальством, заставившие его глубоко задуматься о положении в стране и в мире.

Первым открытым выходом А.Д. Сахарова на арену общественной деятельности было его выступление на общем собрании Академии Наук против лысенковщины в защиту генетики. Это выступление вызвало гнев Н.С. Хрущева, начавшего в связи с этим обсуждать вопрос о роспуске Академии Наук. Это навело Андрея Дмитриевича на дальнейшие размышления, итогом которых стало письмо руководству страны, распространённое в 1968 году. В этом письме были сформулированы две основные проблемы.
Во-первых, отмечал Андрей Дмитриевич, экономическое положение страны непрерывно ухудшается. Наша страна не использует по-настоящему достижения научно-технической революции, и поэтому всё возрастает её отставание от передовых стран в важнейших, определяющих областях науки и техники. Для ликвидации этого отставания и совершенствования экономики необходимо развитие инициативы людей, а для этого нужна демократизация общественной жизни.
Во-вторых, писал Андрей Дмитриевич, мир подошел к опасному пределу, накопив чрезмерно большие запасы т термоядерного оружия и средств его доставки. Для спасения человечества от катастрофы необходимо договориться об ограничении и сокращении стратегических вооружений. Как видно, эти идеи стали в дальнейшем основой того, что называют "новым мышлением". Возможно, что если бы к ним прислушались тогда, а не 20 лет спустя, нашей стране удалось бы избежать той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Однако этого не произошло. На Андрея Дмитриевича обрушились гонения, он был отстранен от работы на «объекте», и занялся правозащитной деятельностью. О ней подробно рассказано в его «Воспоминаниях», отмечу лишь, что он отдавался этой деятельности со всем присущим ему мужеством, не жалея своего, никогда не бывшего особенно крепким, здоровья.
Вместе с тем Андрей Дмитриевич продолжал заниматься наукой. Совершенно неправильными были официальные утверждения о том, что он "оторвался от научной деятельности". Именно в эти годы им были выдвинуты блестящие идеи в области гравитации и космологии.
Для Андрея Дмитриевича было характерно то, что он всегда мог внимательно слушать своих оппонентов, разбирать их аргументы и, если они его убеждали, - изменять свою точку зрения. Отличительной способностью Сахарова была его необычайная смелость. Она проявлялась как в науке, так и в его общественной деятельности. Увидеть раньше других возможность реализовать идею, которая всем окружающий представляется совершенно фантастической - может быть, это и есть проявление гениальности?
Такими были многие научные идеи Андрея Дмитриевича. Такими же были его некоторые общественные идеи, например, идея о возможности ограничения и сокращения стратегических вооружений. Эта идея начала осуществляться. Если её удастся успешно провести, то своим спасением человечество будет во многом обязано А.Д. Сахарову и тем политикам, которые поняли грозящую опасность.
Отстаивая свои идеи, Андрей Дмитриевич говорил то, что он считал правильным, а не то, что нравится слушателям или то, что хочет сделать толпа. (Последнее характерно для некоторых современных политиков). В этом Андрей Дмитриевич проявлял необычайное мужество и принципиальность. Таким было его выступление против войны в Афганистане. Те, кому посчастливилось общаться с Андреем Дмитриевичем, невольно подпадали под обаяние его личности, его необычайной простоты в общении, обязательности, внимательности к людям и их мнению.
Я столкнулся с этим при первом знакомстве с ним. В конце 1962 года Я.Б. Зельдович сказал мне, что он рассказывал Андрею Дмитриевичу о моих результатах в области мюонного катализа ядерных реакций, идея которого была предложена Андреем Дмитриевичем, и тот выразил согласие быть оппонентом моей докторской диссертации.
Я передал через Зельдовича свою диссертацию. За полтора месяца до защиты, когда я присутствовал на собрании Отделения физико-математических наук в Академии, ко мне подошел мой бывший сокурсник Б.Б. Кадомцев и сказал: «Тебя ищет Сахаров. Идем, я тебя с ним познакомлю». Я решил, что Андрей Дмитриевич попросит рассказать ему диссертацию. Однако, к моему удивлению, Андрей Дмитриевич вынул из своего портфеля уже готовый и отпечатанный отзыв. Читая его, я убедился, что Андрей Дмитриевич сам внимательно изучил работу и сделал очень полезные замечания. С одним из них я был не согласен. Мы спокойно обсудили этот вопрос и пришли в результате к общему мнению. Мне вспоминается этот эпизод сейчас, когда многие занятые оппоненты, не желая читать диссертацию, требуют её рассказывать, а некоторые дотошные подзащитные даже готовят для них специальную «рыбу» в качестве отзыва...
Специально хотелось бы рассказать о посещении Андреем Дмитриевичем города Протвино.

В 1988 году после возвращения из Горьковской ссылки Андрей Дмитриевич поинтересовался вопросами, связанными со строительством УНК. А.А. Логунов, которому я рассказал об этом, передал приглашение Андрею Дмитриевичу посетить ИФВЭ. В мае Андрей Дмитриевич неожиданно позвонил мне и сказал, что он может приехать. Он приехал вместе с женой, Е.Г. Боннер в «Жигуленке», который она вела. В течение нескольких дней А.Д. Сахаров детально знакомился с подразделениями Института, и в результате пришел к мнению, что существует важнейшая область исследований для сооружаемого УНК. В дальнейшем, при различных обсуждениях в Академии Наук, он отстаивал это мнение. Когда в Академии зашел вопрос об отсутствии у нас в стране компьютерной связи, Андрей Дмитриевич сказал: «А в Протвино я её видел». (При посещении Вычислительного Центра ИФВЭ он мимоходом видел, как работал на ней С.И. Алехин и заинтересовался этим вопросом).
Живя в Протвино, Андрей Дмитриевич не захотел пользоваться какими-либо специальными льготами, например, столом заказов (что ему было предложено). Многие протвинцы могли увидеть его обедающим в общем зале городской столовой «Здоровье», которой он и его жена были вполне удовлетворены.
Ужиная как-то у нас дома, Е.Г. Боннер сказала:
- «Мы отдохнули здесь от телефонных звонков».
- «Почему же Вы не отключите у себя в Москве телефон, когда хотите отдохнуть?» - спросила моя жена.
- «Как же мы можем это сделать, ведь, может быть, кто-то нуждается в нашей помощи»...
Такая отзывчивость на чужую боль вместе с раздумьями о судьбах страны и мира была присуща Андрею Дмитриевичу Сахарову. Могло ли одно сердце вместить всё это?
Имя А.Д. Сахарова навечно войдет в историю. Можно гордиться за нашу страну, а которой он родился, работал и боролся, можно гордиться вообще за человечество, которое способно порождать таких людей“.
* * *

От редакции «Ускорителя»
Не следовало бы протвинцам подумать о сохранении памяти Андрея Дмитриевича, назвав его именем одну из улиц? Странно, что в городе науки все улицы носят весьма отвлечённые от науки названия..».
P.S. С конца 90-х весь автотранспорт, въезжающий в город Протвино со стороны дороги на Москву, первым делом проезжает по проспекту Академика Сахарова...
Опубликовано: газета "Ускоритель, 17 мая 1991 г.
Републиковано здесь: май 2011.
Серия сообщений "Публикации об А.Д. Сахарове ":
Часть 1 - У портрета А. Д. Сахарова
Часть 2 - К семидесятилетию А.Д. Сахарова
Часть 3 - Последний отпуск Сахарова
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru