Конец истории и последний человек

Когда я, с помощью статей Ю. В. Бялого, только познакомился с концепцией конца истории, которую сформулировал в своей одноименной статье, а затем и книге американский социолог Френсис Фукуяма, то, не смотря на предельную четкость текста Бялого и некоторую беспомощную незамысловатую простоту самого Фукуямы, она все равно была для меня рассуждением из особого мира.
Мира, где высоколобые люди, вобравшие в себя труды философов прошлого и современности, обогатив себя немалым культурным багажом, владеющие тем или иным методом рассуждения о сложном, работают с чем-то, что задевает обывателя только очень опосредованно.
Я имею в виду, что концепт конца истории сформулирован, принят, обговорен, раскритикован, занял свое место в умах людей, которых это касается. Ученых, больших серьезных деятелей культуры, политиков, аналитиков и прочих людей, которые в принципе не занимаются задачами масштаба меньше, чем человечество.
А результат их действий уже и влияет на каждого отдельного человека, через какие-то сугубо приземленные вещи, типа налогов, внешней или внутренней политики, изменения сорта тележвачки.
Как же я ошибался!
Как только начинаешь, даже мысленно, отделять философа и предмет его рассмотрения от человечества, то и философ и предмет теряют всякое значение. Фукуяма не придумал «Конец истории», не разработал эту концепцию, как программист, он взял ее «из воздуха». Если сказать по другому, то он вобрал в себя какие-то мысли, настроения, наблюдения и устремления и провозгласил приход конца истории. И последнего человека.
Я считаю, что это обычное дело для любого, кто хоть как-то выражает себя в любом творчестве, даже самом никчемном. Ничто не берется из ничего.
Я делал доклад на нашем дискуссионном клубе и вся вводная часть у меня этому посвящена. Там видео на полтора часа, но мне будет приятно, если вы его посмотрите. Что-то я повторю в тексте ниже, что-то допишу из того, что трудно будет понять без знания контекста. В общем, этот пост скорее дополнение к докладу, нежели что-то самостоятельное.
Сила гениального поэта в том, что его словами человечество говорит с каждым человеком, причем, на то поэт и гениален, что его слова всегда точны, а их смысл вполне однозначен. И поскольку поэт говорит о том, что касается каждого или пусть даже не каждого, но многих, то его слова всегда к месту. О каждом творящем человеке можно сказать что он поэт. Поэт живописи, поэт режиссуры, поэт танца.
В докладе я привел в пример стихи Красная зараза, Юзефа Щепаньски, которое, не смотря на крайне ругательный тон по отношению к моей стране меня всегда восхищало именно тем, что поэт смог емко и точно выразить не только какие-то свои бредни, но какую-то эмоцию польского народа. Я не утверждаю, что каждый поляк именно так и думал или думает сейчас. Но чтобы понять их лучше нужно просто прочитать больше их книг, стихов, посмотреть фильмов и пообщаться с поляками. Пока что это одна из черт, взгляд с одной из сторон на многогранный польский народ. Хотя и очень красноречивый.
Еще могу привести в пример стихотворение Владимира Лифшица, которое меня как-то зацепило, хотя я вовсе не любитель поэзии и теперь я его помню наизусть, пожалуй.
Ах, как нам было весело,
Когда швырять нас начало!
Жизнь ничего не весила,
Смерть ничего не значила.
Нас оставалось пятеро
В промозглом блиндаже.
Командованье спятило
И драпало уже.
Мы из консервной банки
По кругу пили виски,
Уничтожали бланки,
Приказы, карты, списки,
И, отдаленный слыша бой,
Я - жалкий раб господен -
Впервые был самим собой,
Впервые был свободен!
Я был свободен, видит бог,
От всех сомнений и тревог,
Меня поймавших в сети.
Я был свободен, черт возьми,
От вашей суетной возни
И от всего на свете!..
Я позабуду мокрый лес,
И тот рассвет, - он был белес, -
И как средь призрачных стволов
Текло людское месиво,
Но не забуду никогда,
Как мы срывали провода,
Как в блиндаже приказы жгли,
Как всё крушили, что могли,
И как нам было весело!
Насколько мне известно, сначала он выдавал это за перевод стихов некоего английского солдата-поэта Джеймса Клиффорда. Но, в итоге, он то ли сам признался в авторстве, то ли был разоблачен, что на мой взгляд не удивительно. От его стихов веет такой русскостью,они пронизаны, они созданы русским народом и воплощены через поэта в эти строки.
Если это не мои какие-то собственные недоступные никому переживания и вы почувствуете то же, что чувствую и я, читая эти стихи, то вы прекрасно поймете логику моих рассуждений дальше.

Понятно, Фукуяма не вовсе не гений. Прочитайте статью, которая легла в основу книги, она не слишком длинная и даже не имея никаких специальных знаний, вы увидите массу нестыковок и натянутостей. Если вы не относитесь к тем людям, для которых «в главном-то он прав» является достаточным аргументом для всего, то вы быстро разберетесь.
Но Фукуяма написал статью, которая получила отклик достаточной силы, для того чтобы написать и издать книгу, которая, в свою очередь, принесла ему какие-то еще и дивиденты и он из провинциального профессора стал широко известным мыслителем, путешествующим по миру.
Потом он от своего концепта отказался, признал его ошибочным, впрочем, это не так важно. Я хочу написать о другом. О том, как я увидел если не конец истории в нас с вами, то агонию Духа истории точно.
История изучает развитие человечества в целом, человеческих сообществ и влияние на развитие отдельных личностей. Это не каноническое определение, это я в общих чертах формулирую то, что у меня осело в голове после прочтения нескольких учебников по Философии истории и просмотра лекций М. В. Попова, который, к огромному моему удовольствию публикует их в сети.
Чтобы было понятно, развитие может быть как прогрессивным, так и регрессивным. С древнейших времен бывали периоды деградации человеческих сообществ, смутные времена, откады в архаизацию, которые преодолевались, человечество прогрессировало снова и снова и достигло того, что имеем мы сейчас.

Вспомним хотя бы крах крито-микенской культуры, последовавшие темные века и зарождение новой Греции на основе творений Гомера, которые тем и велики, что лежат в основе нашего с вами мира. Я очень хорошо ощущаю правоту фразы, обращенной к нерадивым студентам: "Гомера надо читать на коленях. И не вам!" Это все было движение, изменение человеческого общества и потому это все предмет изучения Истории.
Вот, Дух истории, на мой взгляд это то, та сила, та сущность, которая в сочетании с человечеством, человеческим сообществом, порождает его развитие. Причем, наверное, Дух истории может быть и таким, что на выходе будет получаться сугубый регресс, как было в темные века в средневековье. Европа сама себя загоняла в прокрустово ложе невежества, пока что-то такое не изменилось и наступил ренессанс, закинувший европескую цивилизацию на технологическую вершину человечества. Я не могу говорить, что и на культурную тоже, мне почему-то кажется, что не смотря на все величие европейской культуры, называть ее передовой по отношению к культурам государств востока все же перебор, который еще могут себе позволить какие-нибудь «наглые и нахрапистые» англо-саксонцы, но не я.
Я вообще не очень понимаю, как можно сравнивать культуры, по каким именно параметрам. Если по «нравится - не нравится», так это не критерий ни коим образом, в силу своей субъективности. По времени существования? Так Китай и Корея впереди планеты всей. По небывалости? Тогда придурок, прибивший себя гвоздем к мостовой главный культурный деятель России?
Впрочем, это было так, отступление. Дальше я буду писать о современной западной культуре. По крайней мере той ее части, которая мне известна. То есть о культуре массовой, распространенной, поп-культуре.
Готовясь к докладу на клубе, я, как мне показалось, нащупал способ, которым можно выявить современный нам с вами Дух истории. Для этого надо взять произведения культуры современности и проанализировать их, сравнив с тем, что было раньше, когда человечество было немного другим. Причем, это не обязательно должны быть нетленные произведения великих и могучих маэстро, вполне достаточно того, чтобы это занимало умы, как творцов, таки и аудитории.
То есть, чтобы об этом хотелось писать, снимать фильмы, рисовать картины и чтобы эти книги, фильмы и картины хотелось смотреть.
Таким образом я обосновал себе правомочность для использования в качестве отправной точки достаточно дрянного сериала по простецкому комиксу о зомби апокалиписе. В принципе, если вы уже посмотрели мой доклад, то там все это есть и я не буду развивать эту зомби-тему дальше, в конце концов, свет на ней не сошелся.

Уже во время самого доклада я пошел по «не написанному» и некоторые мои рассуждения там чистый экспромт. Я хочу их повторить в тексте для закрепления.
Итак, для чего такое долгое вступление.
В детстве я читал много разных книг, понятно, отдавал предпочтения приключениям и фантастике. И я очень четко понимаю, что многие герои этих книг вызывали мое огромное детское восхищение и желание подражать. Я представлял себя на месте пятнадцатилетнего капитана, я выживал в Аляске с героями Буссенара, помогал суровым жителям планеты Пирр построить новую жизнь.
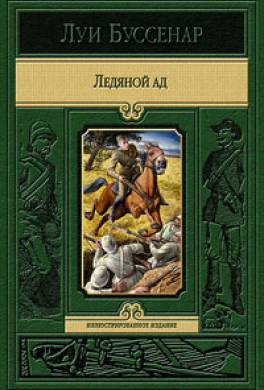
Все перечисленные герои и не перечисленные обладали одним общим свойством, они сначала были никем, а потом, пройдя через многие тернии, закалились, стали достаточно сильны, чтобы решать любые проблемы, которые перед ними ставило повествование, причем, решали они эти проблемы, в первую очередь, за счет собственных возможностей и изредка при помощи удачи.
Капитан Сорви-голова был удачлив, но он был и силен, умен, инициативен. Был у него какой-то огонь внутри, который погнал его в Африку, от очень комфортной и богатой жизни во Франции.
Тарзан, будучи воспитанным обезъянами, в полном одиночестве научился читать, что потом помогло ему освоить английскую речь. И, в целом, не важно то, что это невозможно и что дети-маугли, почти не способны к социализации, что-то теряется в первые несколько лет детства. Важно то, что Эдгар Берроуз верил в человека, в его силы, в его волю. Он был убежден, что такой исключительный человек как Джон Клейтон, начав с обезъянами, достигнет всего самостоятельно.
Вот это все Дух истории эпохи Модерна, выраженный творениями популярных писателей.
Тогда люди Запада так себя мыслили, такие ориентиры ставили перед собой и восхищались именно такого типа героями. Еще в литературе середины прошлого века такой герой правил бал.
Потом что-то изменилось.
Широко распространились комиксы и новый тип героя. Героя, который был никем, а потом его укусил паук и у него теперь супер сила. Сама по себе.
Еще вчера его пинали в школе, сегодня он прыгает по стенам и с ухмылкой ломает кости своим врагам. Даже не вспотев.
Наверное где-то в этот момент из культуры стал исчезать сильный герой, который может менять себя сам и менять вокруг себя мир.
И что мне режет глаз в современных фильмах о тех же зомби? Там нет никого, действия которого я хотя бы одобрил, я не говорю уже о том, что я бы восхитился и представил себя на его месте. Более того, там люди не только не меняют себя, они там даже не рассматривают эту возможность. Современных персонажей меняют обстоятельства. Грань, на первый взгляд очень тонкая, но мне очень заметная.
А выживают члены команды чушкаРика не потому что они сильные и готовы ко всему, что в комиксе, что в сериале, а каждый раз чудом. Они собрали удачу всего мира и всю ее израсходовали к середине первого сезона. После этого, каждый раз, когда на сантиметр промахивается зубами ужасный мертвяк или пуля проходит по касательной у черепа чуть ли не у каждого члена группы (автор комиксов грешит этим, наверное ему нравится рисовать шрамы), остается только тяжело вздохнуть.

И еще, очень важным мне кажется то, что современные творцы человеку не оставляют возможности быть человечным в экстремальных условиях. За очень редкими исключениями, современный герой не несет никакой миссии, не стремится ни к чему, а проблемы решает выпуская свое внутреннее звериное начало. После чего очень об этом переживает.
Разумеется, это не абсолютное явление. Есть книги или фильмы, независимо от своего качества, описывающие движение к Цели, миссию, преодоление. Но, у меня складывается впечатление, что их все меньше и они просто задавлены сюжетами лишенными всякого вразумительного итога (Элизиум, Обливион, Голодные игры).
Почему я говорю, что они лишены разумного итога? Потому что по окончанию повествования, ничего качественно не меняется. Язон дин Альт изменил общество пиррян, они стали жить совсем по другому. Даже те, кто не смог приспособиться к жизни корчевников, сменили планеты и стали воплощать другие проекты.
В Элизиуме просто бросили осколки роскоши к ногам грязного необразованного народа. Это как украсть из дворца все пироженые Марии-Антуанетты и раздать их нищим. А что дальше?
Есть какое-то нежелание видеть другого, нового человека в современной популярной культуре Запада. Именно поэтому, в условиях зомби-апокалипсиса, спустя полгода с его начала, всякие домохозяйки истерят на тему «можно ли дать моему десятилетнему сыну пистолет». Сначала меня это просто раздражало - «Ну американцы, ну тупыеее!» Потом я предположил что не тупые, просто не понимают - как это «новый человек».
Причем, не понимают, не значит что не способны. Но, благодаря своей такой культуре, они уже «заточены» на то, чтобы изменяться под воздействием обстоятельств, всячески этому сопротивляясь. Потому что для них, любое такое изменение, это выпуск на свободу, пусть и кратковременную, внутреннего кровожадного монстра. И следовательно новый человек, это кровожадный монстр во плоти, приспособленный к новому миру, беспощадный и очень опасный. Его надо держать на цепи и всячески душить и это и есть их стремление. Поэтому современный западный герой даже спустя год с начала того или иного апокалипсиса, ничем не отличается от себя прежнего. Меняются только условия его существования.
Когда Хайнлайн писал одну из моих любимейших книг «Свой среди чужих», он писал вовсе не об этом. Но он писал это еще в 1962 году, тогда Запад был другим.

Еще в 2011 году, когда Суть времени только началась, Кургинян сказал, что Запад мертв. Что там не будет ничего нового, что надеяться можно только на нас, на русских. Если и мы не справимся, то западной цивилизации конец, а учитывая уровень ее технологического развития, то скорее всего и человечеству конец. Причем, имеется в виду не конец физический, в атомном пламени например, а конец движению, развитию.
Запад не желает двигаться дальше и по образцам его массовой культуры видно, что не только политики, но и народ не хочет. И он достаточно силен, чтобы не дать двигаться больше никому. Не те люди, чтобы уступать кому бы то ни было мировое господство.
Ну, сказал и сказал. Я услышал и решил, что я не могу этого утверждать, потому что я ничего не знаю о людях в Европе или Америке. Принял к сведению и все.
Теперь, мне кажется, я вижу о чем именно шла речь. И вовсе для этого не надо иметь лучшего друга в Луизиане. Достаточно почитать письма, которые пишут фаны комиксов их автору, а автор их публикует на последних страницах выпуска.
Автору интересно создавать таких, а не других героев, которые так, а не иначе справляются с проблемами. А людям интересно про таких героев читать. А если интересно, значит они не могут не соотносить себя с теми или иными героями, подражать им, симпатизировать.

А это все, что я пишу, один из способов подобраться к Духу истории Запада и посмотреть на него под этим углом.
А мы тоже часть Запада, хоть и в чем-то от этого самого Запада отличающаяся. Это и нас касается.
Вот так.
PS Напоминаю, обсуждал я все же западную поп-культуру. В нашей литературе ситуация заметно отличается от западной. У нас и в современных романах я вижу симпатичных мне героев, на которых можно равняться. Более того, даже если это не мускулистые демоны попоразрыватели, а самые заурядные люди.
Пример - Географ глобус пропил. Теперь, когда вышел фильм, я надеюсь еще больше людей прочитает книги Алексея Иванова, потому что они этого заслуживают.
Служкин, казалось бы размазня, который так и прострадал всю книгу, примерно как Рик Граймс. Но я вижу в нем человека, который прошел труднейший путь, танцуя, если хотите, сложнейший танец с запутанными обстоятельствами, а затем сделал самый честный и самый трудный выбор из всех возможных, за что и обрел мое безграничное уважение сам, как литературный персонаж и Алексей Иванов, как его создатель и человек очень тонко чувствующий наше с вами современное общество.
Хотя и попоразрывателей среди наших героев хватает. Они сражаются, развиваются, проигрывают, но не сдаются. Постапокалиптичные повествования созданные у нас, даже если не несут в себе непосредственной счастливой развязки, а вовсе и наоборот, то все равно подразумевают ее возможность. В отличие, кстати, от творчества Запада - там принято даже в «хэппи энд» вставлять последнего недобитого «чужого», например, чтобы было понятно, что ничего еще не кончилось, что все может обрушиться в любой момент и победа мнима и преходяща. То есть строго наоборот.