Сызрань в художественной литературе
Пару лет назад редактор городского журнала "Квартира 63" попросила меня написать небольшой материал на тему упоминания Сызрани в произведениях художественной литературы. Несколько дней я рылся в сетевых библиотеках, в итоге родился материал, с которым я хочу вас познакомить.
Как ни странно, Сызрань достаточно часто упоминается в художественной литературе, причем «грешили» этим как классики, так и наши современники. Конечно в большинстве случаев наш город упоминается мельком, например в качестве родины одного из героев или родственников героев, места встречи или пересадки, ну и, по традиции, как примера глубокой провинции. Упоминания Сызрани можно часто встретить в исторических романах, повествующих о событиях, происходивших поблизости от нашего города, чаще всего в произведениях на тему Пугачевского восстания и Гражданской войны. В большинстве своем эти упоминания недостойны отдельных цитат, но все же несколько интересных отрывков я хочу предложить моим читателям.

Одним из первых среди классиков Сызрань упомянул молодой Антон Чехов в «Календаре на март-апрель 1882 года» для сатирического журнала «Будильник». В записи на 12 марта значится:
«В Шанхае произойдет падение нравственности. Оттепель. Московским присяжным поверенным приснится Фемида с длинными ножницами, употребляемыми в клинике профессора Склифасовского для отрезывания опухших языков; присяжные поверенные побледнеют и почувствуют угрызения совести. В Сызрани ярмарки нет. В Нахичевани всемирный потоп. В Таганроге сквозной ветер. В Шуе, Владим. губ., землетрясение, которое будет вскоре прекращено старанием местных властей.»
Не забывали Сызрань и те известные писатели, чья жизнь так или иначе была связана с нашим городом. Так Алексей Толстой неоднократно упоминает Сызрань в романе «Хождение по мукам»: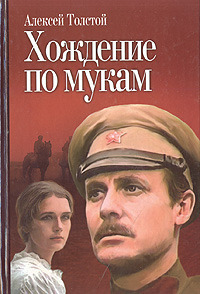
«Перейдя пешком донскую границу, Телегин спрятал полковничьи погоны в вещевой мешок; поездом добрался до Царицына и там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове предъявил в ревкоме документы и на буксирном пароходе пошел на Сызрань, где был чехословацкий фронт.
…
- Эй, братишки, что приуныли? Уж петь, так веселую! - крикнул Хведин. Он тоже выспался, выпил чарку спирту и теперь похаживал по верхней палубе, подтягивая штаны. - Сызрань бы нам еще взять! Как, товарищ Телегин? Вот бы отчебучить... Он скалил белые зубы, похохатывал. Плевать ему было на все опасности, на печаль заволжских закатов, на смертную пулю, которая где-нибудь поджидает его, - в бою ли, или из-за угла... Жадность к жизни, горячая. сила так и закипали в нем. Палуба трещала под его голыми пятками. - Подожди, дай срок, и Сызрань, и Самару возьмем, наша будет Волга...»
…
Бросив карты, Хведин и Телегин вышли на палубу. С левого борта впереди ярко горели, как звезды, электрические огни Сызрани.
…
Через час Сызрань осталась позади. Близ Батраков Телегина спустили в шлюпку. На станции Батраки он сел в двенадцатичасовой поезд и в пять пополудни шел с самарского вокзала на квартиру доктора Булавина.»
Константин Федин, живший и работавший в Сызрани в 1918-19 годах, так же остался под впечатлением от нашего города, и потом неоднократно, хоть и неявно упоминал о нем в своих произведениях. В романе «Города и годы» Федин описывает уездный город Семидол, в котором явно угадываются черты Сызрани начала XX века (хотя наверное и от начала века XXI сие описание ушло недалеко):
«…в станционном буфете Семидола водилась даже нежинская рябиновая, а почтово-телеграфная контора содержала по штатам девять чиновников и семь почтарей.
На российском просторе было раскидано таких Семидолов великое множество. Все они были похожи друг на друга, как куры, и жизнь в них шла по-куриному - от зари до зари, с нашеста на нашест.

Семидольцы бродили по пыльным, мягким, как перины, улицам и прогнившим панелям, кормились, клохтали, выводили цыплят, с опаской посматривали наверх, откуда валятся все беды, и бежали без оглядки, как только раздавался воинственный трепет петушиного крыла. Петухи, как положено, топтали семидольцев, блюли их нравственность, бились смертным боем за свои приходы.
Чтобы отличить в Семидоле наступавшие новые времена от давно прошедших, надо, бывало, прожить в нем не меньше человеческой жизни. В этом случае наблюдательный глаз замечал, что на Монастырской улице поставлен новый фонарный столб, да развалился палисадник против земской управы, да выкрашена заново пожарная каланча.
Но если в мирное стояние Семидола врывалось какое-нибудь событие, то оно проносилось разяще быстро. Так благоденствие птичьего двора сменяется кромешным адом, когда в его пределы влетит оголтелый пес…»

Об еще одном нашем земляке, поэте Иване Дмитриеве, современнике великого поэта, упоминает в своем романе «Пушкин» писатель Юрий Тынянов:
«Василий Львович тотчас пожаловался на петербургскую жизнь: нигде нет устриц, ни туалетных предметов, мелких, но весьма необходимых: все из-за того, что не ходят корабли.
Дмитриев посмотрел на него внимательно косыми глазами и пропустил без ответа его слова.
- Да, Москва, Москва, - повторил он, и на сей раз Василий Львович почувствовал, что бывший друг его - министр, занятый своими мыслями и не желающий беседовать с ним о важных предметах.
- Казалось бы, где и быть устерсам, - растерянно сказал он.
- Друг мой, - ответил наконец укоризненно Дмитриев, - если бы вы в моей отчизне, Сызрани, поели стерлядей, вы бы не вспомнили более об устрицах.
В Сызрани он не был много лет и в послеобеденные часы любил предаваться воспоминаниям.»
Илья Ильф и Евгений Петров в рассказе «Прошлое регистратора ЗАГСа», повествующем о похождениях Кисы Воробьянинова до революции, описывали ухаживания Ипполита Матвеевича за женой старгородского прокурора Еленой Станиславовной Боур. Предводитель дворянства имел у нее успех:
«Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным - он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены. Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность: он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками, - ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самое министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой - розового и наглого Воробьянинова.
Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго,заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.»
А в «Золотом теленке» они же упоминают известный мост через Волгу, когда через него проезжал литерный поезд ехавший на смычку Восточной магистрали:
«Разные люди сидели в вагон-ресторане. На второй день сбылись слова плюшевого пророка. Когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранскому мосту, литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре.»
В романе советского писателя Александра Малышкина «Люди из захолустья» герой повествования вспоминает своего дядю:
«Дядя, в сущности, был тонким мастером-краснодеревщиком. На поделку же гробов, да еще грубых, крашеных казенных гробов он перешел из-за нужды: очень уж много развелось в те поры в Пензе столяров и гробовщиков, все бились из-за работы и заказы перехватывали друг у друга чуть не в драку. Первое время и дядя не отставал, состязался с конкурентами вовсю. Пронюхав, что случился покойник в богатом доме, прибегал туда со своим складным аршинчиком, сбивал цену другим, заискивал всячески перед родственниками и прислугой. Но почти всякий раз прислуга оказывалась заранее купленной, у конкурентов имелись собственные лавки с выбором полного гробового оборудования, вплоть до венков и надгробий, роскошные катафалки в парной запряжке; а у дяди ничего, кроме двух пар рук и инструмента, - этим трудно было завлечь солидного заказчика. И дядя мотался без толку со своим аршинчиком, кормился табуретками, которые делал для толчка, совсем пропадал. Хорошо, что вовремя ухватили подряд в больнице, да и тифок гулял в ту осень по Пензе. На хлеб ему с семейством кое-что оставалось.
Дядя был человек справедливый, бородатый, семейственный, любил в минуты досуга посидеть на сундуке, щекоча под шейкой баловня кота, и степенно советоваться с теткой насчет дальнейшего устроения своих дел и домашности. Было у него в мыслях - бросить навсегда здешнюю муру, махнуть в город Сызрань и снова попытать там счастья. Но тетка, как подруга жизни, перестала соответствовать, тетка клокотала; с утра до ночи растравливала она дядину хмурь скрипучими и укорными словами - все о том же: что вот другие добиваются, норовят везде сорвать копейку, а наши горькие добытчики только сидят, ждут, когда им само под зад подвалит! Слова не действовали, она ныряла за ширму и надрывающе сморкалась там, а потом выходила с казнящим дядю опухшим лицом. Дядя был кроткий человек, он молчал. Он молчал и день и два. На третий он с молчаливой мукой оглядывал гробовое теткино лицо и вдруг, сплюнув, произносил короткое матерное слово. Тогда все примолкало у нас в низке: я, не дыша, углублялся в книжку, а тетка побито съеживалась. И обязательно в этот день готовилось у нас что-нибудь вкусное, праздничное, прямо не по средствам, а за обедом, где дядя сидел как гроза, тетка непрестанно ласкала и рассмеивала меня, нет-нет да поглядывая рабьими глазами на дядю.
И дядя сдавался, мягчел скоро. Но не тетке, а усатому любимцу своему он приговаривал, валя его на спину и щекоча желтыми от политуры пальцами:
- В Сызрань надо ехать, в Сызрань, - вот где люди живут, сукин ты кот!

Почему-то представлялась ему Сызрань туманно-чудесным краем, городом-зарей. Дядя доживал пятый десяток, а главного, самого главного, вот для чего дышалось в жизни, так и не случилось в ней до сих пор. Что это было? Говорили, например, бывалые люди, что в богатой, купецко-размашистой Сызрани не хватает мастеров... И загадывал дядя, как приезжает туда он со своими золотыми руками. Мерещилась ему собственная лавка на главной улице, уютившаяся в угловой часовне, под церковной сенью, и собственный катафалк с парчовым балдахином, с кистями, и пара лошадей в глазетовых попонах, и факельщики в белых цилиндрах; и будто какая-то гора полна народу - вся Сызрань высыпала, и поют певчие со всех церквей: это он, дядя, хоронит самого сызранского городского голову! И что-то еще более светлое и радостное, чем катафалк, чудесило над Сызранью. Что? Эх, если б правду говорили люди и дело стояло только за мастерством, сумел бы дядя показать, что такое мастерство!
На шкафу у нас в жилой горнице покоилась одна вещь. Этот массивный дубовый гроб на изящных львиных ножках, украшенный крестами и херувимами из накладного серебра, и был образцом дивного дядина художества. Он делался урывками, в свободные от осточертевшей казенной грубодельщины минуты; истосковавшийся и забитый судьбою мастер ликовал над ним и, может быть, плакал. И я, просыпаясь от удушливого запаха по ночам, любовался с сундучка своего красавцем гробом. При свете ночника он плыл в сумерках под потолком торжественной ладьей. Благородно изогнутые вздутия ребер и крышки обозначали то место, где придутся грудь и скрещенные руки; шестигранный объем его гармонично суживался к ногам. И возлечь в нем должен был кто-то безжалобный, гордый, удовлетворенный сполна прожитою жизнью.
Это дядино произведение оберегали пуще, чем человека, им гордились, его первым делом показывали заказчикам, заглядывавшим изредка в мастерскую, разжигая у них тщеславные желания. Но охотников не находилось, ибо цена гробу была полоумная - девяносто рублей. Однако дядя надежды не терял, только мыслей своих никому не высказывал; ведали о них лишь борода его да кот, и тетка, я думаю, о том же навзрыд молилась каждый вечер перед спаньем. Потому что за гробом этим разливалась Сызрань синей волжской водой; прибавив выручку от него к прежним сбережениям, можно было, наконец, подняться всем семейством на поиски лучшей жизни.
….
Дядя съездил в Сызрань на разведку, приехал оттуда повеселевший и привез нам в гостинец белых кисловатых кренделей, от которых пахло морозом, другим городом, пристанями... Мастеров, действительно хороших, в Сызрани не имелось - и всего две убогие гробовые лавчонки. Тетка залихорадила, походя с плачем смотрела на иконы. Дядя шушукался с пятнадцатилетним Ваней; в досужные минуты они удалялись вместе к верстаку, таинственно что-то строгали, гнули, сушили. Скоро я дознался, что они, в предвидении будущего, уже мастерят понемногу катафалк.
…
Весною, как сошли воды, дядя со всей семьей уехал в Сызрань, а меня отдали на хлеба к другому дяде сапожнику.»
В общем-то такая любовь автора к Сызрани объяснима - он родился и провел детские годы неподалеку - в Пензенской губернии и, скорее всего, бывал в нашем городе.
Неоднократно, хоть и мимоходом, упоминают Сызрань в своих произведениях писатели фантасты, к примеру братья Стругацкие:
«- А я вот помню в Сызрани, - продолжал Хлебовводов. - бросили меня заведующим курсов квалификации среднего персонала, так там тоже был - улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани это было, а в саратове! сперва я там школу мастеров-крупчатников укрупнял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в сибири... Нет, - сказал он с сожалением. - не в саратове это было. В сибири это и было, а вот в каком городе вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо бы там в этом городе...» («Сказка о тройке»)
«Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает клара, квартиру она сдает щукиным, собрания сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом, не желаю выкупать собрания сочинений... А потом - как же альберт? Его тоже забирает клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять по следам мамаши... Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в ганде сейчас стреляют!» («Хромая судьба»)
«Да. Ты богач. С точки зрения тети моти, которая получает семьдесят рублей пенсии, да еще трешку в месяц ей посылает дочка из Сызрани... С точки зрения этой тети моти, ты - богач! У тебя пять тысяч на книжке, у тебя автомобиль, у тебя дача, у тебя трехкомнатная квартира, у тебя жена может не работать...» («Жиды города Питера», пьеса)
Кир Булычев поселил в Сызрань тетку главного героя романа «Черный саквояж»:
«У меня было странное, какое-то опустошенное состояние. Вроде бы все в порядке, я еду к самому Сорокалету, сбывается моя мечта. Но почему-то мне было куда приятнее думать о том, что установилась хорошая погода и облака текут по небу, как льдины по реке весной, что скоро я поеду в Сызрань, к тетке, на каникулы, что Артем собирается жениться на Настасье, как только им исполнится по восемнадцать лет, а я не знаю, хочу ли я, чтобы моя сестра выходила замуж, или нет.»
А Зиновий Юрьев в повести «Башня Мозга» назвал именем нашего города целый космолет:
«- Ну, началось, - усмехнулся Густов. - Традиционное самобичевание. Сейчас ты скажешь, что вообще не понимаешь, как стал космонавигатором и как доверили грузовой космолет третьего класса "Сызрань", борт "сто тридцать один четыреста семнадцать" такому никчемному существу, как ты...
Внезапно космонавты почувствовали, как "Сызрань" завибрировала" всем корпусом, и цепенящее ощущение катастрофы молнией промелькнуло в их сознании.»
Известный современный писатель Борис Акунин в повести «Алмазная колесница» избрал Александровский мост под Сызранью местом организации диверсии японцами в начале XX века, ну а Сызрань должна была стать точкой пересадки диверсантов. И только благодаря Эрасту Фандорину преступление было предотвращено, мост сохранен и действует по сей день.

« Полгода назад, по поручению Организации, он бросил университет и нанялся на железную дорогу помощником машиниста. Жар топки пожирал последние остатки его легких, но Мост за жизнь не цеплялся, ему хотелось поскорее умереть.
- Вы говорили нашему человеку, что хотите погибнуть с шумом. Я дам вам такую возможность, - звенящим голосом сказал Рыбников. - Шуму будет на всю Россию и даже на весь мир.
- Говорите, говорите, - поторопил его чахоточный.
- Александровский мост в Сызрани. - Рыбников сделал эффектную паузу. - Самый длинный в Европе, семьсот саженей. Если рухнет в Волгу, магистраль встанет. Вы понимаете, что это значит?
Человек по кличке Мост медленно улыбнулся.
- Да. Да. Крах, поражение, позор. Капитуляция! Вы, японцы, знаете, куда бить! Вы заслуживаете победы! - Глаза бывшего студента вспыхнули, темп речи с каждым словом делался все быстрей. - Это можно! Я могу это сделать! У вас есть сильная взрывчатка? Я спрячу ее в тендере, среди угля. Один брикет возьму в кабину. Брошу в топку, детонация! Фейерверк!
Он расхохотался.
- На седьмом пролете, - мягко вставил Рыбников. - Это очень важно. Иначе может не получиться. На седьмом, не перепутайте.
…
Ехали оба одним и тем же восточным экспрессом, только Мост по льготной путейской книжке, третьим классом, а Туннель в почтовом вагоне. Потом их пути разойдутся. Первый в Сызрани пересядет на товарный поезд - уже не пассажиром, а на паровоз - и посреди Волги бросит коробки в топку. Второй же покатит дальше, до самого Байкала.»
Это далеко неполный список произведений, если кто-то из читателей знает другие интересные примеры упоминания Сызрани в художественной литературе - пишите в комментарии, обязательно дополню пост.
Использованы фотографии с сайта Старая Сызрань.
Как ни странно, Сызрань достаточно часто упоминается в художественной литературе, причем «грешили» этим как классики, так и наши современники. Конечно в большинстве случаев наш город упоминается мельком, например в качестве родины одного из героев или родственников героев, места встречи или пересадки, ну и, по традиции, как примера глубокой провинции. Упоминания Сызрани можно часто встретить в исторических романах, повествующих о событиях, происходивших поблизости от нашего города, чаще всего в произведениях на тему Пугачевского восстания и Гражданской войны. В большинстве своем эти упоминания недостойны отдельных цитат, но все же несколько интересных отрывков я хочу предложить моим читателям.

Одним из первых среди классиков Сызрань упомянул молодой Антон Чехов в «Календаре на март-апрель 1882 года» для сатирического журнала «Будильник». В записи на 12 марта значится:
«В Шанхае произойдет падение нравственности. Оттепель. Московским присяжным поверенным приснится Фемида с длинными ножницами, употребляемыми в клинике профессора Склифасовского для отрезывания опухших языков; присяжные поверенные побледнеют и почувствуют угрызения совести. В Сызрани ярмарки нет. В Нахичевани всемирный потоп. В Таганроге сквозной ветер. В Шуе, Владим. губ., землетрясение, которое будет вскоре прекращено старанием местных властей.»
Не забывали Сызрань и те известные писатели, чья жизнь так или иначе была связана с нашим городом. Так Алексей Толстой неоднократно упоминает Сызрань в романе «Хождение по мукам»:
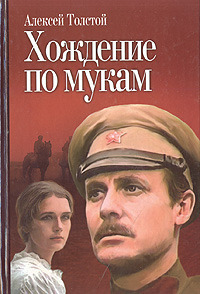
«Перейдя пешком донскую границу, Телегин спрятал полковничьи погоны в вещевой мешок; поездом добрался до Царицына и там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове предъявил в ревкоме документы и на буксирном пароходе пошел на Сызрань, где был чехословацкий фронт.
…
- Эй, братишки, что приуныли? Уж петь, так веселую! - крикнул Хведин. Он тоже выспался, выпил чарку спирту и теперь похаживал по верхней палубе, подтягивая штаны. - Сызрань бы нам еще взять! Как, товарищ Телегин? Вот бы отчебучить... Он скалил белые зубы, похохатывал. Плевать ему было на все опасности, на печаль заволжских закатов, на смертную пулю, которая где-нибудь поджидает его, - в бою ли, или из-за угла... Жадность к жизни, горячая. сила так и закипали в нем. Палуба трещала под его голыми пятками. - Подожди, дай срок, и Сызрань, и Самару возьмем, наша будет Волга...»
…
Бросив карты, Хведин и Телегин вышли на палубу. С левого борта впереди ярко горели, как звезды, электрические огни Сызрани.
…
Через час Сызрань осталась позади. Близ Батраков Телегина спустили в шлюпку. На станции Батраки он сел в двенадцатичасовой поезд и в пять пополудни шел с самарского вокзала на квартиру доктора Булавина.»
Константин Федин, живший и работавший в Сызрани в 1918-19 годах, так же остался под впечатлением от нашего города, и потом неоднократно, хоть и неявно упоминал о нем в своих произведениях. В романе «Города и годы» Федин описывает уездный город Семидол, в котором явно угадываются черты Сызрани начала XX века (хотя наверное и от начала века XXI сие описание ушло недалеко):
«…в станционном буфете Семидола водилась даже нежинская рябиновая, а почтово-телеграфная контора содержала по штатам девять чиновников и семь почтарей.
На российском просторе было раскидано таких Семидолов великое множество. Все они были похожи друг на друга, как куры, и жизнь в них шла по-куриному - от зари до зари, с нашеста на нашест.

Семидольцы бродили по пыльным, мягким, как перины, улицам и прогнившим панелям, кормились, клохтали, выводили цыплят, с опаской посматривали наверх, откуда валятся все беды, и бежали без оглядки, как только раздавался воинственный трепет петушиного крыла. Петухи, как положено, топтали семидольцев, блюли их нравственность, бились смертным боем за свои приходы.
Чтобы отличить в Семидоле наступавшие новые времена от давно прошедших, надо, бывало, прожить в нем не меньше человеческой жизни. В этом случае наблюдательный глаз замечал, что на Монастырской улице поставлен новый фонарный столб, да развалился палисадник против земской управы, да выкрашена заново пожарная каланча.
Но если в мирное стояние Семидола врывалось какое-нибудь событие, то оно проносилось разяще быстро. Так благоденствие птичьего двора сменяется кромешным адом, когда в его пределы влетит оголтелый пес…»

Об еще одном нашем земляке, поэте Иване Дмитриеве, современнике великого поэта, упоминает в своем романе «Пушкин» писатель Юрий Тынянов:
«Василий Львович тотчас пожаловался на петербургскую жизнь: нигде нет устриц, ни туалетных предметов, мелких, но весьма необходимых: все из-за того, что не ходят корабли.
Дмитриев посмотрел на него внимательно косыми глазами и пропустил без ответа его слова.
- Да, Москва, Москва, - повторил он, и на сей раз Василий Львович почувствовал, что бывший друг его - министр, занятый своими мыслями и не желающий беседовать с ним о важных предметах.
- Казалось бы, где и быть устерсам, - растерянно сказал он.
- Друг мой, - ответил наконец укоризненно Дмитриев, - если бы вы в моей отчизне, Сызрани, поели стерлядей, вы бы не вспомнили более об устрицах.
В Сызрани он не был много лет и в послеобеденные часы любил предаваться воспоминаниям.»
Илья Ильф и Евгений Петров в рассказе «Прошлое регистратора ЗАГСа», повествующем о похождениях Кисы Воробьянинова до революции, описывали ухаживания Ипполита Матвеевича за женой старгородского прокурора Еленой Станиславовной Боур. Предводитель дворянства имел у нее успех:
«Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным - он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены. Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность: он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками, - ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самое министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой - розового и наглого Воробьянинова.
Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго,заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.»
А в «Золотом теленке» они же упоминают известный мост через Волгу, когда через него проезжал литерный поезд ехавший на смычку Восточной магистрали:
«Разные люди сидели в вагон-ресторане. На второй день сбылись слова плюшевого пророка. Когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранскому мосту, литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре.»
В романе советского писателя Александра Малышкина «Люди из захолустья» герой повествования вспоминает своего дядю:
«Дядя, в сущности, был тонким мастером-краснодеревщиком. На поделку же гробов, да еще грубых, крашеных казенных гробов он перешел из-за нужды: очень уж много развелось в те поры в Пензе столяров и гробовщиков, все бились из-за работы и заказы перехватывали друг у друга чуть не в драку. Первое время и дядя не отставал, состязался с конкурентами вовсю. Пронюхав, что случился покойник в богатом доме, прибегал туда со своим складным аршинчиком, сбивал цену другим, заискивал всячески перед родственниками и прислугой. Но почти всякий раз прислуга оказывалась заранее купленной, у конкурентов имелись собственные лавки с выбором полного гробового оборудования, вплоть до венков и надгробий, роскошные катафалки в парной запряжке; а у дяди ничего, кроме двух пар рук и инструмента, - этим трудно было завлечь солидного заказчика. И дядя мотался без толку со своим аршинчиком, кормился табуретками, которые делал для толчка, совсем пропадал. Хорошо, что вовремя ухватили подряд в больнице, да и тифок гулял в ту осень по Пензе. На хлеб ему с семейством кое-что оставалось.
Дядя был человек справедливый, бородатый, семейственный, любил в минуты досуга посидеть на сундуке, щекоча под шейкой баловня кота, и степенно советоваться с теткой насчет дальнейшего устроения своих дел и домашности. Было у него в мыслях - бросить навсегда здешнюю муру, махнуть в город Сызрань и снова попытать там счастья. Но тетка, как подруга жизни, перестала соответствовать, тетка клокотала; с утра до ночи растравливала она дядину хмурь скрипучими и укорными словами - все о том же: что вот другие добиваются, норовят везде сорвать копейку, а наши горькие добытчики только сидят, ждут, когда им само под зад подвалит! Слова не действовали, она ныряла за ширму и надрывающе сморкалась там, а потом выходила с казнящим дядю опухшим лицом. Дядя был кроткий человек, он молчал. Он молчал и день и два. На третий он с молчаливой мукой оглядывал гробовое теткино лицо и вдруг, сплюнув, произносил короткое матерное слово. Тогда все примолкало у нас в низке: я, не дыша, углублялся в книжку, а тетка побито съеживалась. И обязательно в этот день готовилось у нас что-нибудь вкусное, праздничное, прямо не по средствам, а за обедом, где дядя сидел как гроза, тетка непрестанно ласкала и рассмеивала меня, нет-нет да поглядывая рабьими глазами на дядю.
И дядя сдавался, мягчел скоро. Но не тетке, а усатому любимцу своему он приговаривал, валя его на спину и щекоча желтыми от политуры пальцами:
- В Сызрань надо ехать, в Сызрань, - вот где люди живут, сукин ты кот!

Почему-то представлялась ему Сызрань туманно-чудесным краем, городом-зарей. Дядя доживал пятый десяток, а главного, самого главного, вот для чего дышалось в жизни, так и не случилось в ней до сих пор. Что это было? Говорили, например, бывалые люди, что в богатой, купецко-размашистой Сызрани не хватает мастеров... И загадывал дядя, как приезжает туда он со своими золотыми руками. Мерещилась ему собственная лавка на главной улице, уютившаяся в угловой часовне, под церковной сенью, и собственный катафалк с парчовым балдахином, с кистями, и пара лошадей в глазетовых попонах, и факельщики в белых цилиндрах; и будто какая-то гора полна народу - вся Сызрань высыпала, и поют певчие со всех церквей: это он, дядя, хоронит самого сызранского городского голову! И что-то еще более светлое и радостное, чем катафалк, чудесило над Сызранью. Что? Эх, если б правду говорили люди и дело стояло только за мастерством, сумел бы дядя показать, что такое мастерство!
На шкафу у нас в жилой горнице покоилась одна вещь. Этот массивный дубовый гроб на изящных львиных ножках, украшенный крестами и херувимами из накладного серебра, и был образцом дивного дядина художества. Он делался урывками, в свободные от осточертевшей казенной грубодельщины минуты; истосковавшийся и забитый судьбою мастер ликовал над ним и, может быть, плакал. И я, просыпаясь от удушливого запаха по ночам, любовался с сундучка своего красавцем гробом. При свете ночника он плыл в сумерках под потолком торжественной ладьей. Благородно изогнутые вздутия ребер и крышки обозначали то место, где придутся грудь и скрещенные руки; шестигранный объем его гармонично суживался к ногам. И возлечь в нем должен был кто-то безжалобный, гордый, удовлетворенный сполна прожитою жизнью.
Это дядино произведение оберегали пуще, чем человека, им гордились, его первым делом показывали заказчикам, заглядывавшим изредка в мастерскую, разжигая у них тщеславные желания. Но охотников не находилось, ибо цена гробу была полоумная - девяносто рублей. Однако дядя надежды не терял, только мыслей своих никому не высказывал; ведали о них лишь борода его да кот, и тетка, я думаю, о том же навзрыд молилась каждый вечер перед спаньем. Потому что за гробом этим разливалась Сызрань синей волжской водой; прибавив выручку от него к прежним сбережениям, можно было, наконец, подняться всем семейством на поиски лучшей жизни.
….
Дядя съездил в Сызрань на разведку, приехал оттуда повеселевший и привез нам в гостинец белых кисловатых кренделей, от которых пахло морозом, другим городом, пристанями... Мастеров, действительно хороших, в Сызрани не имелось - и всего две убогие гробовые лавчонки. Тетка залихорадила, походя с плачем смотрела на иконы. Дядя шушукался с пятнадцатилетним Ваней; в досужные минуты они удалялись вместе к верстаку, таинственно что-то строгали, гнули, сушили. Скоро я дознался, что они, в предвидении будущего, уже мастерят понемногу катафалк.
…
Весною, как сошли воды, дядя со всей семьей уехал в Сызрань, а меня отдали на хлеба к другому дяде сапожнику.»
В общем-то такая любовь автора к Сызрани объяснима - он родился и провел детские годы неподалеку - в Пензенской губернии и, скорее всего, бывал в нашем городе.
Неоднократно, хоть и мимоходом, упоминают Сызрань в своих произведениях писатели фантасты, к примеру братья Стругацкие:
«- А я вот помню в Сызрани, - продолжал Хлебовводов. - бросили меня заведующим курсов квалификации среднего персонала, так там тоже был - улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани это было, а в саратове! сперва я там школу мастеров-крупчатников укрупнял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в сибири... Нет, - сказал он с сожалением. - не в саратове это было. В сибири это и было, а вот в каком городе вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо бы там в этом городе...» («Сказка о тройке»)
«Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает клара, квартиру она сдает щукиным, собрания сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом, не желаю выкупать собрания сочинений... А потом - как же альберт? Его тоже забирает клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять по следам мамаши... Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в ганде сейчас стреляют!» («Хромая судьба»)
«Да. Ты богач. С точки зрения тети моти, которая получает семьдесят рублей пенсии, да еще трешку в месяц ей посылает дочка из Сызрани... С точки зрения этой тети моти, ты - богач! У тебя пять тысяч на книжке, у тебя автомобиль, у тебя дача, у тебя трехкомнатная квартира, у тебя жена может не работать...» («Жиды города Питера», пьеса)
Кир Булычев поселил в Сызрань тетку главного героя романа «Черный саквояж»:
«У меня было странное, какое-то опустошенное состояние. Вроде бы все в порядке, я еду к самому Сорокалету, сбывается моя мечта. Но почему-то мне было куда приятнее думать о том, что установилась хорошая погода и облака текут по небу, как льдины по реке весной, что скоро я поеду в Сызрань, к тетке, на каникулы, что Артем собирается жениться на Настасье, как только им исполнится по восемнадцать лет, а я не знаю, хочу ли я, чтобы моя сестра выходила замуж, или нет.»
А Зиновий Юрьев в повести «Башня Мозга» назвал именем нашего города целый космолет:
«- Ну, началось, - усмехнулся Густов. - Традиционное самобичевание. Сейчас ты скажешь, что вообще не понимаешь, как стал космонавигатором и как доверили грузовой космолет третьего класса "Сызрань", борт "сто тридцать один четыреста семнадцать" такому никчемному существу, как ты...
Внезапно космонавты почувствовали, как "Сызрань" завибрировала" всем корпусом, и цепенящее ощущение катастрофы молнией промелькнуло в их сознании.»
Известный современный писатель Борис Акунин в повести «Алмазная колесница» избрал Александровский мост под Сызранью местом организации диверсии японцами в начале XX века, ну а Сызрань должна была стать точкой пересадки диверсантов. И только благодаря Эрасту Фандорину преступление было предотвращено, мост сохранен и действует по сей день.

« Полгода назад, по поручению Организации, он бросил университет и нанялся на железную дорогу помощником машиниста. Жар топки пожирал последние остатки его легких, но Мост за жизнь не цеплялся, ему хотелось поскорее умереть.
- Вы говорили нашему человеку, что хотите погибнуть с шумом. Я дам вам такую возможность, - звенящим голосом сказал Рыбников. - Шуму будет на всю Россию и даже на весь мир.
- Говорите, говорите, - поторопил его чахоточный.
- Александровский мост в Сызрани. - Рыбников сделал эффектную паузу. - Самый длинный в Европе, семьсот саженей. Если рухнет в Волгу, магистраль встанет. Вы понимаете, что это значит?
Человек по кличке Мост медленно улыбнулся.
- Да. Да. Крах, поражение, позор. Капитуляция! Вы, японцы, знаете, куда бить! Вы заслуживаете победы! - Глаза бывшего студента вспыхнули, темп речи с каждым словом делался все быстрей. - Это можно! Я могу это сделать! У вас есть сильная взрывчатка? Я спрячу ее в тендере, среди угля. Один брикет возьму в кабину. Брошу в топку, детонация! Фейерверк!
Он расхохотался.
- На седьмом пролете, - мягко вставил Рыбников. - Это очень важно. Иначе может не получиться. На седьмом, не перепутайте.
…
Ехали оба одним и тем же восточным экспрессом, только Мост по льготной путейской книжке, третьим классом, а Туннель в почтовом вагоне. Потом их пути разойдутся. Первый в Сызрани пересядет на товарный поезд - уже не пассажиром, а на паровоз - и посреди Волги бросит коробки в топку. Второй же покатит дальше, до самого Байкала.»
Это далеко неполный список произведений, если кто-то из читателей знает другие интересные примеры упоминания Сызрани в художественной литературе - пишите в комментарии, обязательно дополню пост.
Использованы фотографии с сайта Старая Сызрань.