Почему мы бываем навязчивыми. Дао Зависти.
Тем, кто на предложение написать мемуары,
составляет длинную кляузу,
а на просьбу рассказать о своих чувствах -
подробный реестр обид.
Сартр писал, что каждая из наших эмоций представляет собой определенный способ избегания трудностей: эмоции появляются, когда мы не видим дороги, но идти нам надо. Не имея возможности разрешить проблему, перед которой ставит нас мир, мы пытаемся магически его изменить. Эмоция и предполагает такое магическое изменение мира, нашего собственного тела и отношений между ними, и всё это - с целью "заставить" мир изменить условия, неблагоприятные или неприятные нам. Именно отсюда происходит так хорошо знакомое всем качество эмоции - замутнение и затемнение сознания: посредством эмоции мы не воздействуем на конкретные вещи, людей, ситуацию, - мы пытаемся наделить их другими, «произвольными» и необходимыми нам качествами.
Направленная на эмоции рефлексия (рационализация) интерпретирует мир в эмоциональных терминах и подразумевает обусловленность наших реакций объектом: мы полагаем, что злимся потому, что нечто раздражает нас, но не думаем, что это нечто раздражает нас, потому что мы злы. С этого момента эмоция превращается в страсть. Эмоция-страсть создает вокруг нас магический мир, в котором мы начинаем жить, подчиненные нашим собственным представлениям о нем. Мы теряем власть над нашими эмоциями и нашей рефлексей, потому что мы заняты их проживанием как реальных и внеположенных, исходящих из внешних объектов и представляющих собой - не более, не менее - их атрибуты.
Каждый человек «специализируется» на одной эмоции/страсти, у каждого из нас свой излюбленный способ избегания реальности, сформировавшийся из биологических и генетических потенций под влиянием окружения, среды, в которой мы развивались. Доминирующая страсть не только обусловливает наше видение мира, но и вторгается в область бессознательного, трансформируя и подстраивая её «под себя». В психологии и психиатрии такая трансформация сферы бессознательного известна под названием «защитных механизмов». С того момента, когда наш характер (= доминирующая страсть и сопутствующая ей структура) сформирован, наше внимание замечает в окружающем мире только то, что соответствует нашим представлениям о нем и - самое главное - способно поддерживать сформировавшийся характер. Само-идентифицикация с нашим характером превращает нас в рабов обстоятельств, людей, собственных магических представлений. Противопоставить этому мы можем только само-наблюдение.
Наблюдение за самим собой необходимо вести на трех уровнях:
- обыденное поведение, привычки. Здесь нам необходимо выявить наши компульсии, то, что мы вынуждены делать, то, как мы вынуждены поступать, вести себя; все те повторяющиеся из раза в раз паттерны поведения, которые кажутся нам самодовлеющими, которые невозможно (и нежелательно) изменить, потому что «мы такие от природы». Особенно хорошо выражаются компульсии в фрустрациях, - именно по реакции на фрустрированное желание можно выяснить, какие компульсии это желание поддерживали, из какого «другого выхода нет» возникли наши «желания» (как правило, за произвольное, спонтанное, аутентично наше принимается навязанное извне и обязательное к исполнению);
- поведение в конфликтных ситуациях. Здесь мы должны научиться видеть наши отрицательные эмоции и, что наиболее важно, нашу с ними само-идентификацию. Дело в том, что негативные эмоции имеют важное значение в нашем взаимодействии с другими - они трансформируются в требования (Хорни называла это невротическими требованиями), квинтэссенция которых в том, что все наши потребности должны удовлетворяться. Требования отличаются от желаний или нужд тем, что мы полагаем, что имеем право на удовлетворение потребностей, выражаемых в форме требований. Фрустрированное требование отличается от фрустрированного желания тем, что воспринимает препятствия к собственному удовлетворению как персональную атаку, нападение, оскорбление достоинства, враждебность, выпад, агрессию. Фрустрированное требование (= “обломившаяся” отрицательная эмоция) немедленно мобилизует нас на нападение, то есть подпитывает само себя, - и так замыкается круг нашего внутреннего негатива;
- поведение в области наших фантазий, так называемых «мыслей - продуктов желаний». Фантазии вызываются не только желаниями, но и реальными нуждами, поэтому они так глубоко укореняются в нас. Они становятся негативными, когда превращаются в ошибки мысли, в фиксации, в зацикленность, в фальсификацию реальности (термин Хорни): такие фантазии превращает наши потребности в добродетели.
Целью само-наблюдения является выявление нашей доминирующей страсти и обслуживающих ее рефлексии и механических ассоциаций, в совокупности образующих то, что обычно называют характером.
Мои друзья, которым я наваяла эпиграф к этому посту, поражают меня способностью запоминания в мельчайших подробностях всех недостач, недочетов, изъянов, пробелов, недополучек, отсутствий и пропусков, допущенных в отношении их. Эти мои друзья принадлежат к одному из самых распространенных типов характера; традиционно он назывался "меланхолическим", в системе Ичасо "эго-мелан", у Наранхо - "завистливым", у Ризо и Хадсона - "индивидуалистом".
Мне нравится номенклатура Наранхо, хотя может показаться, что слова "гнев", "гордость", "тщеславие", "зависть", "алчность/жадность/скупость", "страх", "обжорство/чревоугодие", "похоть/вожделение" и "леность/сопротивление изменению" заключают с себе какую-то моральную оценку. Это не так. Номенклатура Наранхо сугубо описательная и, надо сказать, весьма меткая в определениях. Я также следую Наранхо в его мысли о том, что лучший психотерапевт - это сам человек, что каждый из нас способен противостоять и неблагоприятному влиянию среды, и успешно справляться с внутренними препятствиями. В характерообразующих страстях нет патологии, - это, по сути, наши защитные механизмы. Энеаграмма дает нам возможность понять динамику их взаимодействия (у каждого человека в характере представлены все страсти, при одной - ведущей), предсказать возможное направление развития личности, наконец, узнать свой ум (ибо его незнание горестно) и научиться им управлять.
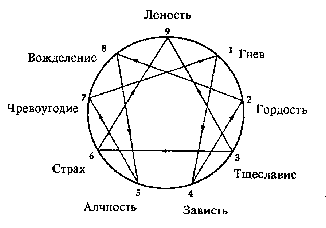
Зависть как характерообразующая страсть.
"Зависть" описывает чувство недостатка, ущербности, сопровождаемое импульсом восполнить их чем-то, что неизменно находится вне человека, в собственности и/или власти других.
Сопутствующее зависти чувство раздражения и является выражением этого недостатка. Позади раздражения зависть присутствует невидимо, а за невидимой завистью стоит еще менее видимое соперничество, смешанное с желанием и привязанностью к другим, зависимостью от других.
Для зависти характерно обесценивание своего и переоценка чужого; человек постоянно мыслит себя обделенным, невезучим, обойденным, а других - везунчиками, счастливчиками и красавцами (зависть постоянно вращается вокруг "внешних данных", это настоящая фиксация, поглощающая огромное количество энергии и буквально истощающая человека). Чувство ущербности заставляет требовать восполнения, компенсации: это требование очень характерно выражается в "нытье", которое на первый взгляд может показаться самоуничижением, попытками вызвать сочувствие, но на самом деле "нытье" вырастает из своеобразного высокомерия (истинное лицо зависти), чувства собственного превосходства, - тут не стоит обманываться - с помощью "нытья" бедняжка выражает своё вам презрение, хотя почти всегда делает это неосознанно.
Зависть ведет психологический гроссбух, в котором дотошно регистрирует все провинности мира в отношении себя. Но это не мстительность и не злопамятство, как оно выражено у противоположного завистливому похотливого типа характера: похотливый характер обязательно ответит ударом на удар, возможно (скорее всего), даже не чувствуя при этом особой обиды или расстройства. Завистливый тип, с каждой новой записью в гроссбухе, перечитает все прежние, доведет себя до температуры кипения и взорвется потоком жалоб "недодали", "недолюбили", "а между прочим, я всего этого достоин".
Лейтмотив жизни завистливого типа - это романтическая любовь, особенно по типу зависимости, наркотического пристрастия. Это поглощающая, собственническая любовь, как если бы завистник не просто хотел полностью завладеть другим человеком, но и заместить его - отсюда постоянно присутствующая в любви завистника соревновательность, показательные выступления умелости, заботы, щедрости, самоотверженности (их должно быть на порядок больше, чем у предмета страсти). Завистливый тип - наиболее "чувствующий" из всех, его чувства имеют эпический размах, оставаясь одновременно и как правило неосознанными для него самого.
Отсутствие осознания собственных чувств свойственно именно характерам истероидного спектра ("гордость" - "тщеславие" - "зависть"), причем у завистливого характера бессознательное беспрепятственно проникает в сознание и распоряжается им по своему усмотрению - это делает завистливый тип характера особенно уязвимым в отношений манипуляций, а также обусловливает то, что переживаемые завистником фрустрации по-особому сильны и долговечны, непреходящи. Такие фрустрации порождают глубокую печаль ("меланхолия") и заставляют человека постоянно вращаться в кругу сожаления о том, что в прошлом могло бы быть, но чего не было. Завистник не может отказаться от желания получить компенсацию за прошлые несчастья/неудачи, а так как такая компенсация невозможна (прошлое изменить нельзя), то настоящее автоматически обесценивается ("зачем всё, если мама меня не любила?"), а взгляд в будущее пессимистичен.
Накал страданий (не придуманных, а настоящих, переживаемых человеком) придает завистнику в собственных глазах превосходство над окружающими, делает его лучше и чище (сталь закаляется, уголь превращается в алмаз - в духе преодоления и следующей за ним награды: зависть амбициозна и практически неспособна на отречение). Внутренне зависть переживается самим завистником как нечто постыдное и уродливое, поэтому на сознательном уровне понимание собственных переживаний блокируется и прорывается вовне в виде чувства вины, непропорционально жесткой самокритики и столь же непропорционального требования самопожертвования и принятия страданий ("ради сына/дочери", "ради семьи", "ради любви" и пр.).
"Природа" зависти - неудовлетворенное тщеславие, это тщеславие, которое никогда не чувствует себя удовлетворенным, потому что всё время занято измерением дистанции, которая отделяет его от возможности наконец соответствовать собственным требованиям. Наранхо говорит, что зависть - это сочетание тщеславия и трусости, как если бы тщеславие затаилось в человеке, боясь проявиться открыто.
Gender gap зависти.
В числе людей, обладающих завистливым типом характера, столь же много мужчин, сколько и женщин (я бы рискнула утверждать, что мужчин больше - или они более заметны). Встречается этот характер, как я уже сказала, очень часто, хотя, несомненно, подвержен заметным гендерным вариациям (по умолчанию речь идет о традиционном патриархальном обществе, организованном по принципу трансверсально-иерархической структуры угнетения).
Завистливый тип характера у мужчин ярко представлен "нытьем". "Ноющих" мужчин в современном мире столько, что они создают общий фон нытья, и никого уже им не удивляют. Обусловленным гендерными нормами является тяготение к соседней с завистью "алчности", что в результате дает стандартный для мужчин завистливого типа катастрофический разрыв между фантазией и реальностью: с возрастом они не только не избавляются от подростковых мечтаний о собственных величии и эксцентричности, но и навешивают на них, как на новогоднюю елку, всё больше и больше детально разработанных украшений.
Тяготение завистливого мужского характера к алчности имеет еще одно гендерно значимое следствие - бытовую мужскую паранойю. Этим термином я обозначаю ситуацию, когда "кругом враги", не только не ценят, но прямо вредят и подсиживают. Жизненным неудачам дается объяснение вражеских происков, особенно в плане "если бы не вы (члены семьи, особенно "находящиеся на иждивении", то есть дети), я бы давно уже защитился/жил бы в Америке/заработал бы кучу денег/женился бы на дочке Ротшильда/слетал бы в космос". Еще одно обычное следствие влияния алчности на завистливый мужской характер: такие мужчины уверены, что они знают, где дают "счастливый билет" (сама вера в существование такого билета и тайного знания о нём очень их выдает), в результате принимают откровенно и бесповоротно глупые решения, негативные последствия которых затем перерабатываются в паранойяльные теории спектра "если бы не вы" и спектра "шеф, всё пропало". Такая переработка вместо действия на исправление ошибки не случайна: мужчины завистливого типа пассивны, психологически негибки и не-ассертивны во внешнем мире.
Другой полюс тяготения завистливого мужского характера - это перфекционизм, в системе энеаграммы представленный "гневом". Такие мужчины фантазируют на тему "долга", "морали", "устоев", "традиции", "правил", держателями и наилучшими исполнителями которых, разумеется, сами они и являются. Это типичные святоши, проедатели плеши и ходячие упреки окружающим в их несовершенстве. Гневливые завистники не ноют в открытую над разбитым корытом "того, что не сбылось", а пытаются получить причитающуюся им по их мнению компенсацию посредством предъявления миру доказательств собственного морального превосходства.
Как у мужчин, так и у женщин завистливого типа "сердце" преобладает над "умом", оба убеждены, что их тонкие и возвышенные чувства ежедневно попираются жестоким миром (часто так оно и есть). Трусость, присутствующая в зависти, не позволяет завистнику прямо "дать сдачи" и попытаться силой завладеть вожделенными благами (этим занимаются их антагонисты в энеаграмме - вожделенцы/похотливцы), но сообщает завистническому типу невероятное упрямство. Это - самый "упёртый" характер (чем и гордится), причем "упёртость" создаёт у завистника иллюзию независимости.
Женщинам, вне зависимости от их "личных предрасположенностей" и личной истории, завистливый тип характера навязывается обществом, так как два самых проблематичных аспекта этого типа возведены в патриархальном обществе в добродетели. Обесценивание самой себя и стремление получить компенсаторные признание и блага извне путем стоического перенесения невзгод - это идеал женственности.
Гендерный женский идеал осуществляется в двух установках зависти: 1) чем тебе хуже, тем ты лучше и заслуженнее; 2) "интенсивное материнство", вот уже в течение 200 лет плодящее невротиков. В женском завистливом характере фиксация на компенсации выражается особенно "броско": завистливый женский тип характера тяготеет к тщеславию, и такая комбинация даёт всем набившую оскомину "аристократичность" ("принцесса"). Принцессы креативны, амбициозны, коммуникабельны, имеют установку на достижение целей и связывают это стремление с "личностным ростом". Одновременно с этим, личными кошмарами принцесс являются внутренняя уверенность в собственной ничтожности и сизифов труд по произведению благоприятного впечатления на окружающих. Принцессы лезут из кожи вон, стремясь "доказать" и получить признание, положительную оценку самих себя и своего труда (выполнения долга), часто буквально "впрыгивая" в глаза окружающим всеми своими достоинствами сразу. Принцессы одновременно практичны и аристократичны, прижимисты в отношении себя и транжиры в проектах, предназначенных для произведения впечатления на других. Очень характерно для принцесс "состав населения" их бессознательного: обычно это всякого рода нежить, пугающие и враждебные образы, внушающие физический страх остаться одной и гонящие принцессу в любые отношения. Как и мужской вариант завистливого характера, женский завистливый характер обычно патологически сочетается с гневом (перфекционизмом) с его характерными фантазиями относительно традиций и долга, и превращается в детский кошмар - маму, пожертвовавшую всем ради ребенка и по гроб жизни обязавшую его в отношении себя.
Завистливый характер - самая плодородная почва для страданий и пессимизма. Я против использования термина "мазохизм", считаю его шарлатанством. Страдания людей истинны, их внутренняя боль истинна, никто не получает ни бонуса, ни удовольствий от собственной боли. Но я также признаю, что завистливый тип характера (как и его энеаграммный антагонист) активно противится как помощи извне, так и внутренней работе сознания. Но причина этого сопротивления (у завистника точно так же, как у любого другого энеатипа) - не удовольствие и не выгода, а страх и леность.
Ф. Пёрлз был прав, говоря о преобладании паттерна зависти в женском психизме - это своеобразное "классовое сознание" женщин; думаю, нет ни одной, которая хотя бы однажды не разыграла свою жизнь по сценарию зависти. Кто не пытался заслужить взятие замуж? Не проявлял личной эффективности, полезности, преданности, верности, чудес понимания/прощения, заботы, лучезарной улыбчивости, оптимизма и позитива, печения пирогов и варения щей, терпения унижений и проглатывания обид, а потом осторожненько и незаметно (согласно правилам аристократичности) не тянул лапку: "Оденьте колечко-с"? Кто не манипулировал посредством собственных якобы беспомощности, непонимания, слабости, нерешительности, благовоспитанности, возвышенности, невинности? Кто не пытался "хорошестью" избежать конфронтаций и соперничества, но таки прийти к финишу первой? Кто тайно от себя не считал, что, стоит только достаточно поплакать и пострадать, как Высшие Силы (=идеальные, истинные, небесные папа/муж) оценят по достоинству и наградят, принесут в клювике счастья и игрушек (чем больше слез, тем игрушек больше), смысл жизни появится и уже никуда не денется? Принцессы - на горошине, терпят и стараются.
Внутренняя динамика зависти.
Ризо и Хадсон назвали 4 энеатип "индивидуалистом", потому что посчитали наиболее важной характеристикой завистливого характера тот факт, что построение его личностной идентичности базируется на убеждении в собственном фундаментальном качественном отличии от других людей.
Завистливый характер считает самого себя "вечным другим" по отношению к людям и жизни: никто не способен ни понять его, ни любить достаточно сильно. В своих собственных глазах завистники не только обладают уникальными талантами и характеристиками, но и уникальными дефектами и/или неблагоприятными жизненными обстоятельствами. Именно знание собственных "недостатков" и болезненная фиксация на них характеризует завистливый тип лучше всего. По сути, "недостаток" там один: неудовлетворительный социальный имидж и неудовлетворительное социальное положение. Завистник живет в постоянных романтических мечтах о том, что в их жизни появится кто-то, кто по достоинству оценит его секретное я, такое грустное и прекрасное. По мере того, как такое появление не происходит, вздыхая и обливаясь "невидимыми миру" слезами, завистник начинает строить свою идентичность на фундаменте идеи о том, насколько он отличен от остальных: всё должно делаться и происходить по собственному (индивидуальному, авторскому) сценарию, соответствовать собственным нормам и условиям. "Я есмь я. Никто меня не понимает. Я особый/ая".
У завистника цветут негативное видение самого себя и низкая самооценка (очень характерные для членов подчиненных социальных групп), которые компенсируются созданием фантазийного секретного я. Это секретное я - важная часть завистливого конструкта. Обычно оно представляет из себя образ какой-нибудь публичной личности, добившейся славы, известности, богатства, признания, отличающиеся особой красотой, особым стилем, талантами и пр. Для завистливого характера очень характерно поведение "фанатения", возведения на престол своего личного идола, подражания ему (насколько это возможно) и последующего разочарования. Дело в том, что завистник допускает ошибку, стремясь "остановить мгновение", бороться против изменчивой, преходящей и конечной природы человеческой психики. Завистники полагают, что могут выбирать, с какими чертами собственной "личности" они будут идентифицироваться, а с какими - нет: "вот это я, а это не я, что бы вы там не говорили". Они верят, что "быть верным себе" означает пребывать в каких-то определенных психических состояниях, неизменных и прекрасных, - именно поэтому любая боль, разочарование, когда-то испытанные завистником, приобретают над ним практически магическую власть: завистник не может освободиться от прошлого, от чувств в отношении людей, которые "не удовлетворили их ожидания".
Главными героями этого магического мира неудовлетворенных ожиданий, конечно же, становятся мама и папа (и, что особенно важно в этом характере, - братья и сестры, бывшие любимчиками родителей, которым всё доставалось даром за счёт "нелюбимого ребенка"- будущего взрослого-завистника). Завистнический характер мыслит себя другим, отличным от родителей (типична фантазия подмены в роддоме, когда маленький Принц Флоризель был обречен на прозябание в хижине свинопасов, недалеких, недостойных, пошлых). Обычно завистники очень хорошо "подкованы" психологически и могут рассказать о том, как не получили в детстве адекватного отражения от своих родителей, как не было в его/её жизни эмоциональной связи с мамой/папой. При распределении семейных ролей они отводят сами себе роль блудного сына/дочери (их не любили, потому что в них есть какой-то страшный дефект). Хочу подчеркнуть, что это ни в коей мере не фантазии на пустом месте - люди, развивающие характер по типу зависти, действительно были игнорируемы родителями, действительно не были эмоционально им близки, действительно не были любимы. Но проблема завистливого человека не в этом, а в том, что и 30-40 лет спустя такой человек живёт детскими обидами и горестями, сконцентрированный на том, что ему/ей не доставало/не достает для полного счастья, фантазиями чудесного получения компенсации/награды/приза за детские страдания и отчаяние (чаще всего таким призом должен стать другой человек, "избавитель", "спаситель" и заместитель хороших родительских фигур). Воздаяние/компенсация должны быть не только за перенесенные невзгоды, но и по заслугам (см. принца Флоризеля). Зависть путает "быть" и "быть особенным".
Основная "тема" всех эмоциональных характеров ("гордости"-"тщеславия"-"зависти") - это нужда, острое переживание неприкаянности, незащищенности (именно гипертрофированной нуждой завистник объясняет себе собственное право на получение благ). Завистники заняты избеганием чувства пустоты, поисками собственной идентичности через отношения с другими людьми, на которых они пытаются возложить ответственность за собственное правильное отзеркаливание. Привлечение других на свою сторону и удержание их около себя осуществляется манипуляциями, покупкой благосклонности и симпатий, выслуживанием.
Межличностная динамика зависти.
Зависть проектирует собственный социальный имидж на конкуренции. Конкуренция проявляется в виде борьбы (с себе подобными, типично соперничество), жалоб (вышестоящим на социальной лестнице, типичны претензии к старшим, к авторитету, например, к терапевту) или "любовной страсти" (типично метание между высокомерием и выказыванием личного превосходства и зависимостью, собственным подчинением и унижением с целью удержания предмета "страсти"). Завистник "прячется", "напускает туману", играет в загадочность и надеется, что люди (особенно те, которые по каким-то причинам его интересуют) заметят его отсутствие, поймут, как мало его ценили, и постараются компенсировать (это слово присутствует везде). Хотя внутренне такой человек может буквально изводиться от необходимости в присутствии другого человека, ненавидеть и презирать себя за эту "слабость", вовне его поведение будет, по крайней мере, поведением примадонны или непонятого гения.
Любому человеку, проявившему интерес к завистнику, присваивается звание "кандидат на спасителя-родителя" и назначаются бессрочные и эпические испытания, чтобы "проверить" чувства другого человека "на истинность". Завистник сам обесценивает любое позитивное чувство в отношении него: "меня не понимают и, скорее всего, не уважают", "она думает, что любит меня, потому что на самом деле не знает, какой я подлец", и самое замечательное из слышанного: "Ну, раз это правда, что она меня любит, значит, она сама немногого стоит". Редко кто выдерживает такую нагрузку, и отношения оказываются под угрозой, - именно тогда завистник ударяется в унижения и выслуживание, попытки задобрить, подкупить и доказать, что его чувства бескорыстны, возвышены, что "ему/ей ничего не надо, лишь бы быть с любимым/ой". Сам он в свои сказки верит вполне.
В рассказах завистников об их эмоциональных невзгодах, обращает на себя внимание равнодушие, полное отсутствие интереса и критичности, каких бы то ни было попыток узнать что-то объективное о тех людях, которые "не соответствовали их ожиданиям", о том, какова была их жизнь, личные обстоятельства, мысли, чувства, характер. Спросите завистника, а кто же такие эти "они", у которых всё есть/было, которые так хорошо живут, и которые не дают так же жить страдальцу, - и он просто вас не поймет. Здесь хорошо заметно то, что обесценивание себя как личности распространяется завистником и на других. Переоценивается не другой человек, а его статусный атрибут (практически всегда несуществующий), который по каким-то причинам видится завистником как залог собственного счастья (в классической паре эм/жо роль завистницы исполняется женщиной как раз потому, что мужчина/мужская фигура обладает в ее глазах способностью придавать статус).
Причина того, что завистник не в состоянии "закрыть гештальт" неудачи, эмоционального провала или тупиковой ситуации в жизни в том, что ему не видна несостоятельность и нереалистичность его ожиданий, ему всё кажется, что если бы другой человек понял бы его, оценил по достоинству, то... В расчет не принимается и не рассматривается возможность, что "другой человек" никогда не сможет его "понять", потому что этот другой человек - такой же банальный завистник, например. Наоборот, отвергающая фигура (начиная с родительских - все завистники пережили реальный опыт отвержения в родительской семье) воспринимается как абсолютно желательная, идеализированная, без которой ничего не может быть, во всяком случае - ничего хорошего.
Стратегией привлечения людей являет щедрость и готовность помочь: завистники считают самих себя внимательными, понимающими, умеющими извиняться (и охотно приносящими извинения), нежными, заботливыми, сердечными, самоотверженными, щедрыми и скромными. Забота о других (и навязывание этой заботы) - это стратегия авансирования, когда человек отдает, чтобы получить взамен, то есть, он заранее знает, что хочет получить от "мироздания", и решает, что это что-то стоит столько-то с его стороны. Наранхо говорит, что забота завистника является также эмпатической идентификацией с нуждами других, но мне кажется, что это псевдо-эмпатия: завистник скорее проецирует на других свои собственные нужды.
Продолжение