1889 год
1889 год. Начало очередного цикла. На Нижегородском Откосе сидит обезумевший Горький, зажав в непослушной скрюченной руке ломоть черного хлеба с хинином, и с ужасом смотрит на Волгу. Он видит, как «за рекою, на темной плоскости вырастает, почти до небес, человечье ухо, - обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, - вырастает и слушает все, что думаю я». Горький смотрит на бога Саваофа, одиноко сидящего на тяжелом престоле, но не может воспринимать без ужаса пустоту вокруг, «потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется». И тогда его со всех сторон окружают толпы голых людей, и «буревестнику революции» приходится убивать бесчисленное множество зомби «длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким как бич». Но он знает, что не виноват в этом: «Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами. Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув точно клок ваты, я исчезал». (Делирий Максима Кислого)
Перенесемся немного северо-восточнее. В это же время по одному из уездов Вятской губернии бегают психиатры Реформатский с Бехтеревым и ловят обезумевших крестьян. Крестьяне в руки врачам не даются, кричат что-то об окружающих их неведомых врагах, огненных столбах, демонах и чудовищах. Иногда перестают обращать на врачей внимание и начинают ловить в воде свои невидимые шапки. Потом опять хватаются за топоры и ну давай за огненными чудищами охотиться.
- Получается, у нас тут не просто злая корча, а какая-то галлюцинаторная спутанность от этого черного хлеба? - задумчиво констатирует Реформатский. - Ведь из трех тысяч нами наблюдаемых больных только в этом уезде треть вот таких сумасшедших.
- Отличненько, - зевая, отвечает Бехтерев. - Вот вы, батенька, человек обстоятельный, сын священника - в своей диссертации про душевную болезнь этой тысячи крестьян и напишите. А я, пожалуй, в своих работах о массовых истериях даже не буду упоминать об этой нашей поездке вовсе. Знаете ли, Николай, я все-таки родился в этой губернии, не хочу писать о моих земляках как о сумасшедших. Зело они обидчивые. Про американцев лучше напишу - вот где психозов-то немеряно! Пойдемте-ка лучше вятского кваса выпьем!
И действительно так ничего и не написал. А про Америку и ее религиозное возрождение - написал. Правда, как выяснилось значительно позже, в этом религиозном безумии тоже спорынья была виновата - но тогда знаменитому психиатру это даже и в голову не пришло. А ведь ему было с чем сравнить наглядно; кажется мы сильно его квалификацию переоцениваем? Пришлось ученику Бехтерева Реформатскому об этой эпидемии 1889 года самому писать. Отнесся он к диссертации серьезно, и работу свою заслуженно ценил. Друзьям потом экземпляры своей книги дарил - и Льву Толстому, и Антону Чехову. А Толстому еще до выхода книги все в красках рассказал о той эпидемии, и Толстой проникся, сразу после этого стал - в виде аллегории - вставлять в свои письма и статьи фразу: «лучше совсем не есть хлеба, чем есть хлеб с спорыньей».
Но перенесемся еще восточнее. Кунгур, Пермский край. То же время. Пока местное население продолжает массово заниматься раскопками трех мифических чудотворных икон на горе в пяти верстах от города, как ранее заповедовал явившийся одной бабе «старец весь белый и в ризах как снег», болезнь добирается и до Кунгурского женского монастыря - того самого, который в СССР стал исправительной колонией, а сейчас передается РПЦ.
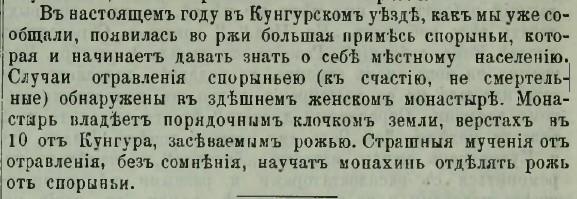
(Екатеринбургская неделя, 29.10.1889)
Что там дальше случилось с монахинями - неизвестно (Горького бы туда - было бы у нас прекрасное описание). И вот здесь стоит вспомнить Европу и множество рассказов об одержимых монахинях в монастырях на протяжении столетий. Монашки мяукали и кусались, залезали на деревья, изгибались в дугу и блеяли как овцы. Они пересчитывали вселившихся в них бесов (рекорд - 12606), а демоны пригибали им головы к земле и выворачивали руки и ноги с такой силой, что кости трещали. Монахини бились в конвульсиях и бормотали заклинания на дьявольском наречии, ползали на животе, высовывали язык, который делался совсем черным, испускали крики, лаяли и кудахтали, а бесы жгли им пятки невидимым огнем. Даже ночные горшки не слушались монахинь и убегали из-под них, как случилось в Камбре, где монашки носились по полям, как собаки, взмывали в воздух, как птицы, подобно кошкам карабкались на деревья и подражали голосам разных животных, а изо рта у них шла пена. Но самым страшным, по словам богослова Лабретана, было то, что некоторые монахини «обнаруживают во время причастия страшное отвращение к Св. Дарам, строят им гримасы, показывают язык, плюют на них и богохульствуют с видом самого ужасного нечестия». Все эти истории про проверки Гофриди иглой по обвинению в «объедании мясом маленьких детей» и сожжении после обнаружения «печати дьявола». Про сожжение колдуна Грандье, после чего страшные припадки монахинь, вызванные луденскими дьяволами, почему-то вовсе не прекратились. Про отца Сурена и других заклинателей луденских бесов, которые вдруг сами лишились рассудка, и в них также поселились дьяволы, и кончили они жизнь, как одержимые, в конвульсиях и судорогах. Все это можно читать как увлекательный роман, отложив в сторону Стивена Кинга.
Было ли в России что либо подобное? Не могло не быть. Есть ли подобные живописные описания одержимости монахинь в русских монастырях? Нет ни-че-го. Православные сор из избы никогда не выносили.
Перенесемся немного северо-восточнее. В это же время по одному из уездов Вятской губернии бегают психиатры Реформатский с Бехтеревым и ловят обезумевших крестьян. Крестьяне в руки врачам не даются, кричат что-то об окружающих их неведомых врагах, огненных столбах, демонах и чудовищах. Иногда перестают обращать на врачей внимание и начинают ловить в воде свои невидимые шапки. Потом опять хватаются за топоры и ну давай за огненными чудищами охотиться.
- Получается, у нас тут не просто злая корча, а какая-то галлюцинаторная спутанность от этого черного хлеба? - задумчиво констатирует Реформатский. - Ведь из трех тысяч нами наблюдаемых больных только в этом уезде треть вот таких сумасшедших.
- Отличненько, - зевая, отвечает Бехтерев. - Вот вы, батенька, человек обстоятельный, сын священника - в своей диссертации про душевную болезнь этой тысячи крестьян и напишите. А я, пожалуй, в своих работах о массовых истериях даже не буду упоминать об этой нашей поездке вовсе. Знаете ли, Николай, я все-таки родился в этой губернии, не хочу писать о моих земляках как о сумасшедших. Зело они обидчивые. Про американцев лучше напишу - вот где психозов-то немеряно! Пойдемте-ка лучше вятского кваса выпьем!
И действительно так ничего и не написал. А про Америку и ее религиозное возрождение - написал. Правда, как выяснилось значительно позже, в этом религиозном безумии тоже спорынья была виновата - но тогда знаменитому психиатру это даже и в голову не пришло. А ведь ему было с чем сравнить наглядно; кажется мы сильно его квалификацию переоцениваем? Пришлось ученику Бехтерева Реформатскому об этой эпидемии 1889 года самому писать. Отнесся он к диссертации серьезно, и работу свою заслуженно ценил. Друзьям потом экземпляры своей книги дарил - и Льву Толстому, и Антону Чехову. А Толстому еще до выхода книги все в красках рассказал о той эпидемии, и Толстой проникся, сразу после этого стал - в виде аллегории - вставлять в свои письма и статьи фразу: «лучше совсем не есть хлеба, чем есть хлеб с спорыньей».
Но перенесемся еще восточнее. Кунгур, Пермский край. То же время. Пока местное население продолжает массово заниматься раскопками трех мифических чудотворных икон на горе в пяти верстах от города, как ранее заповедовал явившийся одной бабе «старец весь белый и в ризах как снег», болезнь добирается и до Кунгурского женского монастыря - того самого, который в СССР стал исправительной колонией, а сейчас передается РПЦ.
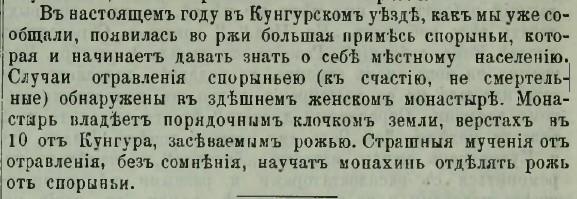
(Екатеринбургская неделя, 29.10.1889)
Что там дальше случилось с монахинями - неизвестно (Горького бы туда - было бы у нас прекрасное описание). И вот здесь стоит вспомнить Европу и множество рассказов об одержимых монахинях в монастырях на протяжении столетий. Монашки мяукали и кусались, залезали на деревья, изгибались в дугу и блеяли как овцы. Они пересчитывали вселившихся в них бесов (рекорд - 12606), а демоны пригибали им головы к земле и выворачивали руки и ноги с такой силой, что кости трещали. Монахини бились в конвульсиях и бормотали заклинания на дьявольском наречии, ползали на животе, высовывали язык, который делался совсем черным, испускали крики, лаяли и кудахтали, а бесы жгли им пятки невидимым огнем. Даже ночные горшки не слушались монахинь и убегали из-под них, как случилось в Камбре, где монашки носились по полям, как собаки, взмывали в воздух, как птицы, подобно кошкам карабкались на деревья и подражали голосам разных животных, а изо рта у них шла пена. Но самым страшным, по словам богослова Лабретана, было то, что некоторые монахини «обнаруживают во время причастия страшное отвращение к Св. Дарам, строят им гримасы, показывают язык, плюют на них и богохульствуют с видом самого ужасного нечестия». Все эти истории про проверки Гофриди иглой по обвинению в «объедании мясом маленьких детей» и сожжении после обнаружения «печати дьявола». Про сожжение колдуна Грандье, после чего страшные припадки монахинь, вызванные луденскими дьяволами, почему-то вовсе не прекратились. Про отца Сурена и других заклинателей луденских бесов, которые вдруг сами лишились рассудка, и в них также поселились дьяволы, и кончили они жизнь, как одержимые, в конвульсиях и судорогах. Все это можно читать как увлекательный роман, отложив в сторону Стивена Кинга.
Было ли в России что либо подобное? Не могло не быть. Есть ли подобные живописные описания одержимости монахинь в русских монастырях? Нет ни-че-го. Православные сор из избы никогда не выносили.